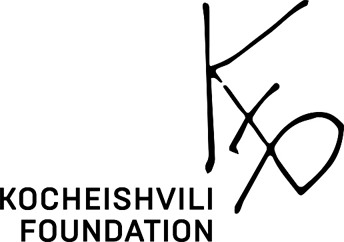Рецензия.
Работа Бориса Петровича Кочейшвили (р. 1940) разнообразна, но не оставляет впечатления эклектичности. В предпосланном рецензируемому альбому разговору Т. Веховой с В. С. Турчиным последний подчеркивает: «Я воспринимаю и принимаю творчество Кочейшвили в целом. И не только в данном случае, но и вообще – это мое личное отношение к творчеству мастеров…»
Впрочем, далее собеседники сходятся на общей невозможности четкого стилеобозначения в новом и новейшем искусстве: «Наши представления о направлениях в современном искусстве очень бедны. У нас не хватает терминов и понятий. Вся наша существующая классификация элементарна и слишком условна. Все упрощая, она, на самом деле, ничего не объясняет…»
Сам Кочейшвили, отсылая к старой идее о вневременных метастилях, говорит: «Со времен наскальных росписей и до наших дней искусство постоянно курсирует от барочных форм к классическим (читай – конструктивным, т.е. берущим за свою основу конструкцию) и обратно», – таким образом опять-таки уходя от локального стилеобозначения: «Наблюдая эту борьбу двух разнонаправленных, казалось бы, стилей в искусстве, я ощущаю эту борьбу и внутри себя».
Итак, можно сказать, что перед нами не (пост)концептуальное моделирование имиджа художника, но интегральное представление его творчества, не определимого в строгих дефинициях, но явственно создающего единое пространство (а отнюдь не последовательность изолированных проектов).
Ключом к художественному языку Кочейшвили могут – для кого-то неожиданно, для кого-то закономерно (так, автор этих заметок, происходя из литературного, а не из арт-мира, знаком был с этими стихами раньше, чем с графикой или живописью) предстать стихотворения нашего героя. Это отмечает и Турчин: «В двадцатом веке невозможно представить себе художника без текстов… К тому же, нельзя забывать, что любой текст, написанный художником, мобилизует зрителя на определенное восприятие автора в целом». К трем основным разделам альбома, представляющим, соответственно, графику, живопись, рельефы Кочейшвили, предпосланы то ли эпиграф, то ли комментарии – небольшие, на страницу, подборки стихотворений.
В поэзии Кочейшвили исповедует минимализм, примитивизм, поэтику фрагмента, отрывка. Это, одновременно, и необязательные вроде бы «записки простодушного», и четкие, лаконичные тексты-образы, тексты-фиксации, тексты, афористически описывающие собственно художественный метод автора: «Если у вас / Окажется / Такая возможность / Лечь вдоль стены / И телескопически / Высунуть / Голову / В пустой пейзаж / Я бы вам / Посоветовал». Или: «Ну что я могу / Сделать / Да ничего / Две-три сносные / Мысли / Три-четыре сносные / Линии / Пять-шесть сносных / Словосочетаний / Шесть-семь / Семь-восемь».
Конечно, в этих поэтических автокомментариях очень велика доля спокойной ироничности – нацеленной и вовне, и на себя, но этим свойством, представляется, обладают и собственно изобразительные работы Кочейшвили. Здесь принципиален частный, ненавязчивый характер подобного иронизма, нацеленный скорее на большую проявленность материала, но отнюдь не на его деконструкцию. Вот, в серии графических работ «Имена» в конфигурации зданий вплетаются надписи «Егор», «Лиза и Митя», «Оля», «Наташа». Как не вспомнить здесь опыты Ильи Кабакова или Эрика Булатова, также вплетавших текстуальные элементы в изобразительное пространство – и тем максимально проблематизируя саму возможность изобразительной репрезентации. Для Кочейшвили это просто игровой элемент, возможность соотнести элементы графики текста с контурами изображаемых объектов.
Здесь возникает искушение принять антиконцептуальную простоту за наивность. Но дело в том, что Кочейшвили как раз прошел блистательную школу, он именно профессионал, мастер не только в метафорическом, но и самом прямом терминологическом смысле. Так, фантастическая техническая сложность рельефов Кочейшвили не выпячена, спрятана, но явственно ощущается всеми, кто обращается к ним (особенно, замечу, при непосредственном обращении к оригиналам – мерность, объем, чуть ли не стремление к тактильности здесь столь важны, что репродукции передают лишь отражение эффекта). Сам художник открывает один из основополагающих принципов работы, можно сказать, собственное кредо: «Я по природе своей не живописец и не бог весть какой рисовальщик. Зато, сколько я себя помню, я всегда упорно занимался композицией… Все искусство – это композиция. Композиция и пространство. Мне пришлось немало потрудиться, прежде чем я научился строить изображение так, чтобы все было связано воедино, и связано остроумно».
Лаконизм композиций Кочейшвили как раз и вызывает эффект той самой наивности, которая не имеет к данному случаю никакого отношения. Перед нами работа, принципиально лишенная пафоса – уничтожения знаковых систем или подчинения зрителя, обладания им. Перед нами, не побоюсь этого слова, своего рода художественное смирение (также, впрочем, непафосное), попытка чистой пространственности.
Как пишет Кочейшвили в стихах: «Что это / с одним ли со мною / пейзаж пустой / стобы / чахлое поле / лес никакой / а хорошо / я насыщаю пейзаж / собою».