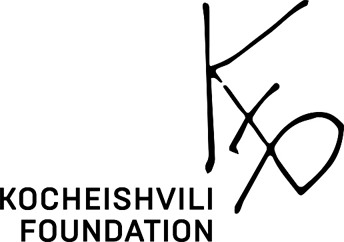Предчувствие новой реальности.
Любой покой хрупок и иллюзорен, считает художник Борис Кочейшвили.
Хороший художник в любом случае не способен изменить себе. Что бы он ни делал, все будет исходить из некоего внутреннего ядра его индивидуального таланта, будет продиктовано его уникальным мироощущением. В процессе работы раскрывается то одна, то другая грань или ипостась дарования, но не в виде арифметической последовательности, а скорее биологически – как естественный процесс роста или как существование внутри творческого потока. Графика, живопись, рельефы… Что бы ни делал мастер – а ведь он может и дальше продолжать искать и экспериментировать в различных направлениях – все равно, увидев его работы, мы скажем: «Это Борис Кочейшвили». Мы узнаем его по мгновенно бросающимся в глаза приметам: манере, стилистике, своеобразном видении мира – и безошибочно определим автора.
Впервые я увидел работы Бориса Кочейшвили в конце шестидесятых годов прошлого века. Тогда культурная жизнь страны начала бурно возрождаться после мрачных лет тоталитарного застоя, художники, критики и искусствоведы наряду с прочими внутрицеховыми проблемами задумались о судьбе искусства графики. Вопрос активно обсуждали на страницах изданий по искусству. Авторы статей вспоминали традиции начала века, легендарную графику 20-х годов, ее выдающихся создателей. Нечто достойное эпохи серебряного века, конечно же, хотелось видеть и в современности. В тот момент я принимал участие в подготовке к одной крупной московской выставке и среди множества работ мое внимание привлекли графические листы Кочейшвили. Мне сразу стало очевидно, что по уровню мастерства, философскому наполнению, стилистике они целиком и полностью находились в русле «графического прорыва» шестидесятых годов и соответствовали масштабам задачи – вернуть искусству графики былое величие. Тут надо заметить, что графика – одно из наиболее трудных искусств, причем не только для исполнителя, но и для зрителя. Графика провоцирует на более глубокое собеседование между зрителем и произведением, сокращает дистанцию за счет ощущения близости к творчеству как таковому – ведь в графике можно проследить за движением кисти, пера, руки. Ни в одном другом виде искусства не возникает такого тесного приближения к творчеству, фактически ощущения сотворчества. В работах Кочейшвили, на мой взгляд, возникает непосредственная связь произведения и зрителя, происходит приобщение зрителя к настоящему искусству. В них есть необходимая степень условности, следование некой системе и в то же время импровизационность. Собственно, это сочетание и создает тот эстетический эффект, который дарит нам особое удовольствие. Работы живут. Вы видите, что они как будто или написаны прямо сейчас, или же находятся в процессе создания. И это еще одна из особенностей графики – этакая законченность незаконченности. Графика открыта в качестве процесса. Если другие виды искусства приобщают нас к восприятию пространственных ощущений, то графика приобщает нас также к ощущениям временным, процессуальным.
К сожалению, далеко не все зрители готовы соучаствовать творческому процессу. Для этого необходима определенная воспитанность или же предрасположенность восприятия. Недаром так мало настоящих ценителей и знатоков графики. Для широкой публики этот вид искусства остается малодоступным, потаенным по сравнению с другими – ведь по большому счету он требует совсем иного подхода и даже экспонирования.
С живописью дело обстоит несколько проще. И, хотя, живописное пространство также существует согласно своим собственным особенностям и законам, вопрос экспонирования живописных произведений решен в музейном деле уже давно и в большинстве случаев вполне успешно.
Живопись Бориса Кочейшвили прекрасно иллюстрирует эти правила. На первый взгляд она стилистически не просто перекликается, но даже тесно переплетается с графикой. Но по характеру исполнения образной системы это совершенно самостоятельное явление искусства, которое существует по своим собственным законам. Здесь появляется цвет, а цвет – это не просто раскрашивание, но в принципе иной вариант художественного поведения. В живописи Кочейшвили я обнаружил чрезвычайную тонкость – причем, именно в технике. Я с большим интересом наблюдал, как художник изображает небо. Ведь все художники делают это по-своему. Я говорю, конечно же, не об облаках, заходах и восходах – меня интересует фактура, манера наложения красок и работы кистью. Например, кажется, что это просто пустое небо. А на самом деле оно все, до последнего атома, вибрирует. С помощью цветового наполнения и техники мазка оно, изображенное условно, создает ощущение живой воздушной стихии. Это и есть настоящий профессионализм – свободное владение техническим мастерством и средствами искусства. Накопленный в течение десятилетий громадный опыт дает Кочейшвили возможность легко решать проблемы, о которые другой споткнулся бы или просто предпочел от них уйти. Интересно, как он строит пространственные планы в живописи. Они как будто находятся на одной плоскости, но при этом чувствуется – что что-то ближе, а что-то дальше. Пространство выстроено исключительно на цветовых нюансах, хотя при этом все краски не яркие, а приглушенные. Эта тонкая нюансировка цветопространства дает в результате мощный художественный и в то же время эмоциональный эффект.
Продолжая разговор о различных техниках и способах их восприятия интересно было бы упомянуть и о рельефах Кочейшвили. Лично мне чрезвычайно интересными кажутся те работы, которые не покрашены – оставлены ослепительно белыми. В этом случае они более ярко проявляют свою «первородность». Я вижу и в этих рельефах то, что характерно для его графики – живое рождение формы. Только если в графике это рождение еще длится, то здесь оно, конечно, уже застыло. Рельеф в силу своих особенностей не содержит процессуального начала, что ничуть не делает эту технику менее любопытной. Рельефы Кочейшвили эффектны, оригинальны, наполнены высоким эстетизмом, даже можно сказать – эстетством, которое, впрочем, присутствует и в других работах художника.
Вообще логическая система мастера: графика – живопись – рельефы, представляется мне оказывается чрезвычайно точной и последовательной. И вполне логичным продолжением этой последовательности является и то, что Борис Кочейшвили является еще и довольно известным поэтом. Это вполне естественно, ведь в двадцатом веке невозможно представить себе художника без текстов: интервью, собственных размышлений об искусстве, эссе, рассказов, стихов или даже романов. К тому же нельзя забывать, что любой текст, написанный художником, мобилизует зрителя на определенное восприятие творчества автора в целом. Ведь слово помимо всего прочего несет в себе гипнотическую, внушающую силу. Изображение и слово и по-разному задействуют восприятие, включают разные участки головного мозга – одно активизирует другое. В сумме получается более цельная картина. Интересно видеть работы, читать стихи и, соединяя одно с другим, получать более цельную модель бытия, созданную художником. Вообще это захватывающая проблема – сосуществование поэтического и художественного. Ей уделяло внимание немало теоретиков искусства. Взаимоотношения слова и изображения – это фундамент человеческой культуры.
Сам собой возникает вопрос, в какую «нишу» помещается Борис Кочейшвили. Как писать о нем? Кто он? Модернист? Шестидесятник? Нонконформист? К сожалению, наши представления о направлениях в современном искусстве крайне скудные. У нас не хватает терминов и понятий. Вся наша существующая классификация элементарна и слишком условна. Стараясь все упростить, на самом деле она ничего не объясняет. Важнейшей чертой культуры всего ХХ века является многоголосье. Есть голоса хорошие и похуже, сильные или слабые, низкие или тонкие. При этом каждый имеют право прозвучать, выразить себя. Чем больше индивидуальностей, направлений, тенденций, тем сильнее и значимее искусство. Мы привыкли судить о той или иной эпохе по исключительно крупным величинам: Пикассо, Дали, Ротко. На самом деле было много других художников, чьи имена мы открываем только сейчас. При этом все они крупные, значительные мастера. Они завершали или же только начинали свой путь в ту эпоху, когда творили безусловные «звезды». Получается невероятно сложная картина. Что уж говорить про наше время. Огромная проблема в том, что мы просто не можем понять, не в силах чисто физически охватить всю панораму современного искусства. Только представьте на секунду количество современных художников, выставок, галерей, музеев. И их количество множится с каждым днем. Выходит, что отдельный человек просто не в состоянии увидеть все, а коллективное сознание в данном случае ничем не может нам помочь. Поэтому никакой «объективной» картины развития современного искусства не существует. Мы вынуждены полагаться лишь на случай или на интуицию.
Что касается Кочейшвили, то место этого художника в пестрой картине современного искусства – особое, и это очевидно. Особое – не значит экстраординарное, затмевающее собой все остальные явления искусства. Особое – значит обособленное. Яркая индивидуальность делает его непохожим на других, указывает на самостоятельность его пути. И это большой плюс для любого художника. Искусству Кочейшвили свойственны поэтичность и лиризм – эти качества, очевидно, продиктованы особенностями мировосприятия самого автора. Каждое его произведение дает представление если не о мироздании, то о мире в бытовом и бытийном значении. На первый взгляд, в некоторых его работах можно усмотреть жанровое начало: плотогоны, игра в лапту, чаепитие. Но очевидно, что изображен не быт, но некое бытие, бытийственность. Кочейшвили рассказывает о том, как человеку живется в мире и даже космосе, наполовину придуманном – наполовину реальном. В некоторых работах есть ощущение безмятежного покоя и гармонии, но этот покой условен и иллюзорен. Это покой в предчувствии беспокойства. В настроении, ритме, строе композиции есть ожидание чего-то иного. Все, казалось бы, спокойно, благополучно. Но возникает ощущение какой-то неосознанной тревоги, как будто все может в любой миг рухнуть. Мир, в котором пребывает художник, предельно хрупок и трепетен. Достаточно малейшего толчка – и он рассыплется. И недаром эту хрупкость так хочется сберегать.