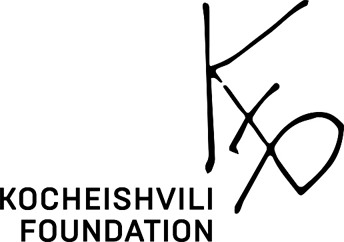Послесловие критика.
Размышления Бориса Кочейшвили резко окрашены личностью автора. Уже одно это должно привлечь к ним внимание. Но есть в них и живой след и сегодняшнего дня графики, где все большее место занимает поколение художников, которому принадлежит Кочейшвили. Если всего несколько лет назад он был затерян среди других нынешних последователей И. Голицына и Г. Захарова, то теперь в рисунке он отыскивает свой собственный путь. Известную роль в этом сыграли занятия рисунком в Офортной экспериментальной студии имени И.И. Нивинского, где в конце 1972 года было развешено около ста рисунков и литографий Бориса Кочейшвили - первая выставка его работ. Затерявшийся на одной из старых мещанских улиц особняк, в котором разместилась студия, знаком многим московским графикам. Ежедневная работа с мастерами-печатниками, светские рауты, скромные «цеховые», но принципиально важные выставки и показы работ, наконец, советы Евгения Сергеевича Тейса, прошедшего в своей время школу им. В. Митурича, а позднее - во многом противоположного В.А. Фаворского. Все это способствовало приобщению молодого художника (да и не его одного) к графической традиции советской классики.
Мастерам, воспитанным на строгом отношении к объективному предметному миру, рисунки Бориса Кочейшвили, вероятно, кажутся слишком субъективными. По словам того же Е.С. Тейса, в них субъективное недостаточно наложилось на объективное. За этими жестокими рамками понимания рисунка стоит не только сложившаяся традиция, но и те критерии, тот наиболее распространенный тип рисунка, в котором этот жанр возобновляется в наши дни. Неслучайно на последних специальных выставках рисунка почти не оказалось рисунков-набросков - результата спонтанного творческого акта. Что, кстати говоря, и отличает рисунок от многодельной живописи. Явное предпочтение было отдано композиционному рисунку, разработанному едва ли не со всей основательностью картины.
Рядом с таким рисованием, очень профессиональным, но редко пассивно-созерцательным, пробивается и другое художественное видение. Слова «для меня жизнь, которую я хочу нарисовать, - это совокупность существующего и невероятного, услышанного, мелькнувшего и придуманного, прочитанного и ожидаемого» можно отнести не только к их автору, Борису Кочейшвили, но и к работам теперь уже целого круга художников, еще недостаточно замеченного зрителем и исчерченного критикой.
Сам Борис Кочейшвили готов признать свое рисование «легкомысленным», но вовсе не для того, чтобы отказаться от избранного им пути. Его взаимоотношения с натурой осложнены. Она дается ему с трудом. Порой слишком «лезет» в рисунок. Ему больше удаются женские модели, погруженные в мир своих, едва уловимых, переживаний или портреты совсем молодых людей с их юношеской неопределенностью черт лица, внешнего облика и внутреннего состояния. Однако портеры, рисунки с натуры для него не самое главное. Его больше увлекает искусство игры, неслучайно он говорит о «манящем пространстве», его любимое занятие - сочинительство, недаром он называет свои рисунки «сценами-картинками».
В этом смысле его рисование программно. Это почти всегда серии, которые только весьма приблизительно можно отнести к сериям, как это принято говорить, на литературные темы, хотя в них есть легко распознаваемые персонажи пушкинского или чеховского времени («получеховской» назвал одну из серий сам художник).
Жанровую сцену он обращает в искусную мизансцену, где своей излюбленной, чуть вздрагивающей линией рисует не столько фигуры, сколько состояние. Он любит располагать фигуры в спокойных позах, в просторных интерьерах или в пейзаже с высоким горизонтом неба. Его персонажи узнаваемы и часто переходят из листа в лист, из серии в серию. Иногда одна и та же фигура повторена на том же самом листе - происходит своеобразная поэтическое удвоение образа. На других листах как бы совмещено несколько разных планов: реальный и воображаемый, заполняющий обычно верх листа. Они связаны между собой тоже по законам игры, языком открытых театральных жестов. При всей необычности и привлекательности этих «сцен-картинок» есть в них некое противоречие. Наследие эстампной графики порой настигает художника, пожелавшего выступить как раз против тиражности готовых решений.
Молодых наших графиков так и тянет в последние годы не столько к большим формам, сколько к большим размерам, что нарушает соразмерность замысла и решения и насилует природу графического листа. Пример старого нашего мастера Д. И. Митрохина говорит о другом. В своих рисунках последних лет он предельно органичен во всем: в темах своих рисунков - те немногие предметы, которые окружали художника в его старческом затворничестве; в технике - карандаш, тронутый акварелью; даже в размере - небольшой листок бумаги, который никак не стеснял художника в задаче выстроить сложное, но прежде всего - свое - пространство. Здесь как раз и есть то «ритмическое состояние тела и души», которое так ценит Борис Кочейшвили и к которому стремится сам. Но не всегда достигает. Листам порой не достает эмоциональной напряженности. Она рассеяна или, лучше сказать, ослаблена большим пространством листа. Отсюда некоторая созерцательность, которая вступает в противоречие с открытой театральностью его мизансцен, делая их слишком одноплановыми, хотя художник стремится насытить их сложным содержанием. В этом противоречии, думается, и есть одна из причин трудностей общения зрителя с его рисунками.
Свои размышления Борис Кочейшвили начинает словами: «В последнее время мне все реже удается в чем-либо разобраться и все чаще хочется что-нибудь сделать». Однако то, что он написал, как будто говорит о противоположном. Объясниться со зрителем художнику оказалось невозможным без того, чтобы прежде всего не выяснить отношения с самим собой.