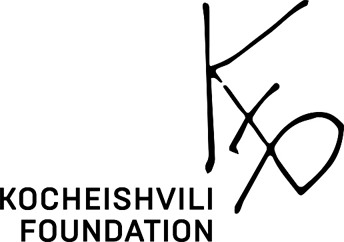Я и Они
Борис Кочейшвили существует вне каких бы то ни было систем — в перпендикулярной сегодняшнему дню реальности. Мне кажется, что и рассказывать о таком человеке правильнее будет в свободной манере. Этот текст сложно назвать кураторской статьей, скорее это — портретный очерк, попытка запечатлеть уникальный рисунок личности художника.
Я и ОНИ
«Я и ОНИ. ОНИ и Я» — написал на двери своей мастерской Борис Кочейшвили почти полвека назад. Кто такие ОНИ: зрители, искусствоведы, друзья, возлюбленные, кисточки и краски — представить несложно.
А вот кто такой этот Я? Какой он — Я?
Портрет художника, его облик, привычки, способ проживания жизни — все это важно сохранить для истории.
ЗНАКОМСТВО
Мы познакомилась в Тарусе, на косогоре у Оки. Борис жил в покосившемся домике со ступеньками в сад, заросший крапивой и лопухами. Художник усадил меня — студентку-искусствоведа, которая попросилась в гости посмотреть его работы, — на стул напротив сколоченного из грубых досок уличного мольберта, вынес огромную стопку ватманских листов и молча начал ставить их на мольберт. Я смотрела на чудесные работы и не могла оторваться. Потом побежала домой, собрала все свои накопления и купила одну — натюрморт с наклонными бутылками.
Позже я навестила художника в его мастерской в Чистом переулке. Пришла раз, другой... Мне, только что получившей диплом историка искусства и понятия не имевшей, как работает арт-бизнес, очень хотелось, чтобы работы Бориса Кочейшвили увидели и полюбили. Я начала писать о нем на форумах, устраивать выставки, просмотры и продажи.
ПОРТРЕТ
Невысокий человек, красивый. Крупные черты: нос, губы, непокорные волосы. Мелодичный голос. Он поет и играет свою музыку, хотя нотную грамоту так и не освоил. Слух абсолютный и не только в музыке. Кочейшвили чувствует любую фальшь: в поведении, изображении, слове — и реагирует на нее всегда крайне болезненно. Нервный — как скульптура Джакометти.
А еще в 1990-е годы он неожиданно для себя начал писать стихи. И Кочейшвили приняли в поэтическом мире: его стихи публикуют, включают в антологии.
Борис давно «не состоит, не принадлежит и не участвует». Он живет и работает в своей мастерской в Арбатских переулках, между Кремлем и Сити, у Академии художеств, но бесконечно далек от общественной жизни. «Я отгородился от мира своими работами», — говорит он. Круг общения: пара-тройка друзей. Один из них — Юрий Погребничко, художественный руководитель театра «Около». Долгое время Борис ходил в театр чуть ли не каждый день. Если не давали спектакль, сидел на репетициях, рисовал актеров, пил чай в режиссерском кабинете.
ДЕТСТВО
Борис вспоминает, как в детстве «освобождал» Берлин — в мае 1945 года ехал с отцом по немецкой столице на автомобиле и отец говорил ему: «Посмотри и запомни!»
В Германии же, в городке Эберсвальде, впервые увидел театральную постановку. В маленьком барочном театре наши военные поставили спектакль «Давным-давно». На сцену вывели живого коня, и отец все шептал ему на ухо: «Конь полковой, а гусар — конюх Васька».
Два года семья прожила в Германии. На прощание няня-немка подарила Борису акварельные краски и кисточку. «Краски я моментально изрисовал и кисточку протер до основания и после очень об этом сожалел», — вспоминает он.
Позже отца командируют в Уссурийск заведовать местным Домом культуры. Здесь происходит вторая встреча с искусством — в тени колонного портика ДК девятилетний Борис помогает художникам из Москвы мять газеты и делать из папье-маше громадные лепные рамы для портретов вождей. Портреты были нарисованы тут же на растянутых простынях сухой кистью.
Вот оно. «Я стану художником!»
Семья вернулась в Электросталь. Чтобы поступить в Художественное училище памяти 1905 года в Москве, он занимается в единственной в городе студии.
И вот наступил торжественный момент — вступительные экзамены. Накануне Борис очень волновался, не мог уснуть и... конечно же, проспал. «Прибегаю на вокзал и вижу, что моя электричка медленно тронулась. В голове отчаянная мысль «Неужели я не стану художником?» Я побежал изо всех сил, вскочил на подножку и уехал в Москву», — рассказывает он.
ДОМ ХУДОЖНИКА
В своей мастерской во флигеле особняка Фон Мекк в Чистом переулке Борис прожил полжизни. На второй этаж ведет крутая темная лестница. Внутри светло, свет льется с трех сторон сквозь пыльные стекла. В центре сияет белыми изразцами толстенная печная труба. В ее чреве художник устроил камин — кособокий очаг, который вполне справляется со своим предназначением: и тепло, и уют, и залетных барышень чарует.
В мастерской нет места лишним предметам: «быту — бой». Всюду штабелями — картины, книги. На стене старинная гитара-семиструнка, инкрустированная перламутром, — подарок подруги цыганского барона. На полках аккуратными стопками листочки со стихами.
И к своим работам, и к деньгам Борис относится легкомысленно. На вопрос «Сколько стоит эта картина» отвечает: «Миллион или ничего». Деньги, полученные от продажи работ, раздает знакомым и незнакомым.
«Безбытный художник» назвал его искусствовед Александр Боровский. В Тарусе, куда Борис Кочейшвили приезжает уже много лет, он живет по чужим дачам.
В конце 1990-х, на полученные от галеристов деньги, Борис покупает землю и дом в Киржаче и уезжает с любимой женщиной «строить идеальное пространство». Первым делом он сооружает себе громадный стул-трон — для наблюдений за «окоемом».
Счастливой жизни не случилось, с женщиной расстался, дом был продан.
Но образ дома постоянно возникает в его творчестве. Дом-мечта. Дом-фантом. «Мой дом упал направо и налево», — еще одна строчка из его стихотворения.
УЧИТЕЛЯ
Когда я завожу с ним разговор об учебе и учителях, он злится: «Нет никого, кто мог бы сказать, что чему-то меня научил».
Но есть любимые художники — Андрей Рублев, Рембрандт, Тициан, Пикассо, Малевич, Моранди, Древин. Пермская деревянная скульптура. Ну и еще — по пальцам перечесть. К остальным, за редким исключением — беспощаден.
«В искусстве меня в первую очередь интересует пластика. А что такое пластика? На сцену выйдут десять танцовщиков, и все будут делать одно и то же, но ты выделишь одного. У него будет пластика, а у других — техника», — говорит Борис. Свой собственный пластический дар художник развивал в запасниках гравюрного кабинета ГМИИ им. А.С. Пушкина. Рассказывает, как проводил там часы и дни, перебирая листы старинных оттисков. Ему и его сотоварищам это было позволено, потому что они занимались в легендарной мастерской Нивинского под руководством Евгения Тейса, выпускника ВХУТЕМАСа и одного из авторов мавзолея Ленина. «Тейс действительно много нам дал», — неохотно признает Кочейшвили.
Единственный человек, которого Борис считает своим учителем, — скульптор Аделаида Пологова, его ближайший друг. Однажды, глядя на то, как она работает с деревом, Кочейшвили посетовал, что жизнь прошла, а он так и не попробовал себя в скульптуре. «Боречка, а вы попробуйте делать рельефы», — посоветовала ему Пологова. Борис попробовал и делает рельефы по сей день. Часть из них теперь находится в музейных собраниях — в Третьяковской галерее и Русском музее.
Когда Алла умерла, он очень горевал. Вырезал из каталогов фотографии ее скульптур и вклеил в свои работы — «поселил» их, осиротевших, в райских местах.
РАЙ
У Кочейшвили много картин с названием «Рай»: «Рай I», «Рай II», «Рай III»... Художник говорит, что сначала ему просто не хотелось рисовать советскую действительность, а потом он стал развивать эту тему, и в его работах появились идеальные женщины, архитектурные сооружения, которые вполне могли бы стоять в раю, просека, уходящая далеко-далеко, к чему-то наверняка еще более прекрасному…
«Рай, неподдельный Рай на земле — это поэзия, которую я всегда любил. Пастернак, Ахматова, Мандельштам и поздние любимые мною поэты — все это кусочки Рая. Еще доступные мне кусочки Рая — это русская архитектура. Это все райские места, особенно Покров на Нерли. Как ни крути, иногда это трагический Рай, — у Рембрандта, у Гойи, у Эль Греко, часто у Пикассо: «Девочка на шаре» – эпизод из Рая. Рай — это поэзия, рай — это архитектура, рай — это божественная душа любимых художников», — говорит Борис Кочейшвили.