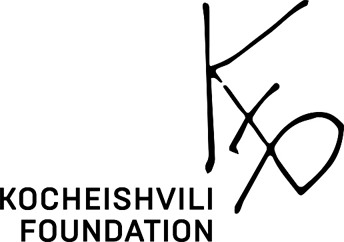«Жил певчий дрозд».
«Жил певчий дрозд» – был такой ранний, 1971 года, фильм Отара Иоселиани. Герой, молодой человек, музыкант, должен был бить в литавры во время представления оперного театра. Каждый вечер, один раз. Всё остальное время он проводил в суете – навещал необязательных людей, шел на ненужные встречи, выпивал с друзьями. Помогал знакомым и незнакомым. Создать «чего-нибудь музыкального» так и не успел, хотя мелодия жила у него в голове. Умер нелепо. Вот только все его любили и по нему горевали. В энциклопедических статьях об этом фильме напирают на бессмысленную суету, на которую обрек себя талантливый человек. На его растраченность по пустякам. На его, так сказать, «нерезультативность». Были, наверное, и другие, шестидесятнические, толкования. Дескать, в наступавшие холода музыкант просто вынужден растрачивать себя в прямом общении с людьми, потому что в профессиональном качестве творца он реализоваться просто не мог. Я же, помнится, после просмотра, не мудрствуя лукаво, просто всплакнул – фильм показался мне безумно грустным. Первокурсник несмышленый, я все примерял на себя: «Эх, надо бы бросить все эти студенческие забавы и оглушить себя библиотекой. Пока что-то такое ещё вертится в голове». Я себе льстил. Голова была, согласно одной нынешней песенке, как московский пустой бамбук. Однако кое-какие разночтения с конвенциональной версией «нерезультативности» я всё же почувствовал. В фильме потрясающе было снято чрево оркестровой ямы. Что-то такое вспоминалось возвышенное. Да-да, пушкинское: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен». – «Погружен-то оно погружен, - думал я о герое, но по первому требованию приходит ударять в свои литавры. Торжественно, священно. Это ли не жертва? Чего ещё надо? Нет, этот Иоселиани не так прост». Это я сегодня понимаю, насколько не прост. Думаю, он многое заложил в своем фильме. И послеоттепельный политический холод, столь нестерпимый в Тбилиси. И свое понимание аполлонического, – одновременно высоко драматичное и пародийное. И суету, которая, подпитываясь экзистенцией, как-то непрограммно, алеаторно-случайно оборачивается искусством (А статусно-возвышенное – жертва, звук литавр – оборачивается пафосной обязаловкой). К чему я виду?
К тому, что хочу назвать статью о Борисе Кочейшвили – «Жил певчий дрозд». То есть разбудить ассоциативный потенциал старого фильма применительно к художнику. Надеюсь, меня не упрекнут в прямых аналогиях. Кочейшвили – это художник, проживший большую жизнь, к тому же – продуктивный, готовый заполнить своими произведениями не один музейный зал. Это вам не общительный юнец Гия, обретший в силу отзывчивости и щедрости натуры массу друзей, но не успевший, благодаря этим же качествам, ничего сделать в профессиональном плане: за Кочейшвили – серьёзные выставки, тексты опытнейших критиков – Ю.Герчука, Ю.Молока, В.Турчина. Но вот жизненный, поведенческий рисунок… Артикулированная легкость, безбытность бытия… Неспособность дожать свое творческое высказывание до статуса концепта, конвертируемого в кругах транснационального арт-истеблишмента… Вообще беспечная незаинтересованность в том, чтобы его месседж дошел до нужных глаз и ушей и был функционален ( закрепил положение в художественной иерархии)… Страшно сказать – неуверенность в том, что это именно месседж, а не удовольствие… Вправе ли я сосредотачиваться на поведенческом рисунке?
В самом деле, если это биографическое, то есть особый жанр, вроде пыляевского – «Знаменитые чудаки и оригиналы». Но тут другое. Тут поведенческое прямо отражается в искусстве, одновременно подтачивая статус конвенционально высокого (у Иоселиани это, вспомним, – коннотации, связанные с литаврами). Подтачивать можно по-разному. Со времен Fluxus это достигалось работой с HighandLow, артикуляцией низкого, профанного – нехудожественных материалов, мусора и пр. Русские концептуалисты – отождествлением собственного художественного мышления с типами ментальностей, профессионально связанных с классификацией, архивацией (складированием), собирательством (старьевщик, археолог, лингвист и пр.). Их последователи младшего поколения – доведением тех же мыслительных практик до градуса шизоидного кипения.
Кочейшвили подтачивает стереотипы высокого (и вообще эталонного – сегодня и к концептуализму, столько сделавшему для развенчания всяческих стереотипов, приросли котурны) своим частным методом. А именно – самим характером проживания жизни и искусства. Он даёт лукавую подсказку зрителю, подбирающему ключик к его творчеству: «Дорогие мои/ Времени нет/ Лето/ Прополка/ Куры да утки/ Скот донимает/ А то бы я вам / И «охотников на снегу»/ И «Черный квадрат»/ И «Данаю».
Такой вот певчий дрозд. Уклонения от обязанностей служить Высокому (или социальному, или, воспользуюсь филоновским выражением, «теченскому», или философско-дискурсивному, не говоря уже о «карьерном»), всевозможные увлечения и отвлечения, петляния, «прятанье шагов», и – неожиданно – наполнение всем этим частным и посторонним поэзиса! Итак, несистемный художник.
Кочейшвили выставляется с середины 1960-х, следующее десятилетие активно занимается в Экспериментальной студии им. И. Нивинского, «у Тейса», как тогда говорили. Кажется, роль Е.С. Тейса сегодня основательно позабыта. Между тем, в историко-культурном плане он сделал многое: он выступал не только в амплуа хранителя печатной культуры, видимо, ему было присуще остросовременное понимание медиальности, которым он охотно делился. Офорт как технику любили использовать мастера тематического эстампа. Тейсу бездумная служебность медии была неинтересна. Он – в ходе бесконечных летучих выставок – своих и своих студийцев, в Москве и на выезде – на Сенеже, предлагал просматривать материальный план эстампа в его как бы приостановленной процессуальности: нанесение рисунка, травление, печать. Каждая стадия обладала своей отдельной, причем не миметической, почти «абстрактной» содержательностью: штриховые массы, выявление фактурных эффектов в результате травления, что-то ещё. Для Кочейшвили, похоже, важна была эта «анатомия эстампа»: его известная непредсказуемость (всё-таки не до конца прирученная стихия травления), амбивалентность черного и белого (изображение процарапывается по лаковому слою, то есть оно светлее, «белее» фона, затем оно протравливается кислотой, забивается краской, в отпечатке рисунок уже черный), вообще процессуальность создания оттиска. Заметным офортистом Кочейшвили не стал: всё-таки заявил он о себе как о самостоятельном мастере прежде всего уникальной графикой – большими станковыми рисунками тушью, выполненными кистью. Однако офортный опыт – «театр одного офорта» с его драматургией – развитием и кульминацией визуального действа, с загадкой, которая раскрывается в самом конце, – думаю, существенно повлиял на его поэтику.
В самой середине 1970-х Кочейшвили начинает показывать свои «фирменные» рисунки тушью на мелованной бумаге. Часть из них была как бы предметна, другая – как бы сюжетна. Оба определения условны. Характернейшей работой первой группы предстаёт «Скульптура» (1976 г.) – изображение объекта сложной пластической природы. В изображении явно солирует этот предметный план, антропоморфные и биоморфные ассоциации возникают позднее. Но сначала – странная предметная форма, видимо, органического происхождения, привлекающая какой-то загадочностью: два невиданных существа, вросшие в землю. Не просто вросшие – укорененные в ней: предметы (тела) и почва выполнены в одном приеме визуализации, вплоть до отработки фактуры. Живопись кистью имеет свою природу, но здесь она явно впитала офортный опыт: амбивалентность черного и белого – они взаимопроникаемы и в силуэтном плане, и в фактурном. Так, в живописном мазке чувствуются пробелы (или возможность пробелов): память об офортном процарапывающем штрихе. На каком-то этапе смотрения зритель концентрирует биоморфные и антропоморфные ассоциации, возникает даже некий сюжет: женщина-амазонка со щитом, рядом – дерево. Однако и миметический план снова готов уступить место, я бы сказал – плану метафизическому. Но об этом позже.
Обратимся ко второй группе рисунков. Здесь сразу же узнаваем план игры, театральности. Это театр мимики и жеста. Ю.Молок писал в связи с этим о традиции изображения клоунов и мимов, имея в виду лотрековскую линию. Да, Кочейшвили ценит жест. Но – я бы добавил – он освоил и язык остановки жеста, его символизации и метафорики («Разговор с королевой»; «Женщины и совы»). Важно добавить, что весь этот игровой план не был чисто условным. У него была своя укорененность – в архаическом театральном мире. И – в народной, бытовой, «коммунальной» городской культуре ориентального типа – тбилисской?
Таким образом, с середины 1970-х проявились два базисных момента поэтики Кочейшвили: метафизический и театральный. Вот теперь хотелось бы перейти к поколенческой проблематике – окрасила ли она поэтику и, если да, то насколько? Кочейшвили принадлежит к поколению, выступившему вслед за шестидесятниками (фактор объективный). С шестидесятниками связан «суровый стиль», последняя попытка репрезентации реальной социальности в советском искусстве. Она предопределила обращение к артикулированно энергосодержащим источникам: реактуализация пластического опыта «бубнововалетцев», поставангардного тематизма 1930-х (прежде всего, наследия ОСТа и группы «Октябрь»), интерес к современным западным реалистам ( скорее, «реализмам»): Р.Гуттузо, А.Фужерону, мексиканским муралистам. Семидесятники уже не питали социальных прогрессистских иллюзий, они остро ощущали безвременье, в которым им суждено было жить и работать. Отсюда – тренд театрализации, затронувший многих мастеров поколения: Н.Нестерову, О.Булгакову, А.Ситникова. Это только живописцы, театрализация охватила разные жанры и разные виды искусства, особенно декоративно-монументальный.
Пожалуй, мало кто из художников тогда мог отрефлексировать эту театрализацию как своего рода эскапизм, отход (отказ) от потерявшей историческое содержание реальности. Сегодня это кажется несомненным. Более того, я бы хотел расширить поколенческие и, особенно, «направленческие» рамки этого тренда. Так, я бы добавил к группе семидесятников и ряд более старших по возрасту концептуалистов, которые никогда не рассматривались (боюсь, и протестовали бы против этой манипуляции) в этом контексте: например, И.Кабакова или В.Пивоварова. Так, в их классических вещах, скажем, картине «Вопросы и ответы» Кабакова или в пивоваровском альбоме «Лицо» ситуация заземлена до предела и текстуализирована до реплик, но всё равно это – театр, и драматургия, и лексическая обрисовка персонажей существуют даже не в редуцированном, а, скорее, в свернутом виде. Думаю, в театрализации, к которой приходит Кочейшвили, присутствует мироощущенческий импульс, характерный для целого поколения. Другое дело, что художник находит свою линию разговора в общем нарративе неудовлетворенности наличной действительностью (выражение Э.Булатова). Театр Кочейшвили авторизован прежде всего, естественно, пластикой. Но не только. Художник создаёт собственную труппу: определенную типологию персонажей. Иногда они персонифицированы («Художница Л.Пастушкова», «Оля и Наташа»), имеют имя и фамилию, но чаще это именно типажи. В ряде случаев – наделенные художником некими знаками: власти, женственности и пр. («Разговор с королевой»). Женщина убеждающая и женщина выслушивающая, женщины, беседующие на равных, мужчина романтический, гуляка праздный, художник и пр. Персонажами выглядят и излюбленные художником изображения птиц: они явно несут в театре Кочейшвили символическую роль неких вестников. Наконец, в этом театре визуализированы и некие повлиявшие на художника образы искусства – присутствующие не в качестве цитаты, но в виде акцентированного пластического акцента. Художник создаёт мир сложного семиотического взаимодействия: посредством жестов, мимики, поз он создает своего рода лексику понимания.
Вообще уровень понимания внутри любой сцены гораздо выше, чем результат считывания извне: художник сознательно оставляет за собой право не расшифровывать то, что скрывается за пантомимой – спор об истине или выяснение отношений по поводу рецепта любимого блюда. Филолог А. Жолтовский когда-то удачно определил прозу Фазиля Искандера как «театр искусных сигнализаций». Кочейшвили умеет добиваться воистину сигнальной выразительности жестикуляции («Жесты»). Но постепенно он овладевает и языком умолчаний, пауз, приостановок режима протекания времени. В таких работах, как «Три сестры», «Ловля птиц», язык пространственных цезур не нуждается в жестовой поддержке.
В 1990-е годы появляется серия «Имена». Внешне она может напомнить о концептуализме: в изобразительную ткань вплетены тексты – русские имена, мужские и женские. Собственно, ткань – это декорации «театра Кочейшвили», на этот раз приближенные к реальным архитектурным прообразам – визуальным вариациям на темы русской провинциальной архитектуры, усадебной и церковной. В эти трансформированные согласно авторскому воображению, но не потерявшие связь с архитектурными реалиями образы: часовни, портики, веранды и пр., вписаны имена: Оля, Егор, Лиза и Митя… С концептуализмом это явно не имеет ничего общего – имена, в отличие, скажем, от «всего списка лиц, имеющих право на получение», в классической работе Кабакова, не несут идеологических коннотаций. Более того, само их написание, рисование, противоречат текстуальности концептуализма, требующей редукции и анонимности или «готовости» (readymade) изображения. Оно носит авторский характер, соотнесенный к тому же с архитектурной пластикой (все эти рифмы округлостей, перекличка ритмов, соотнесенность пустотностей). Но даже не перекличка архитектуры рисованного шрифта и архитектуры, трансформированной воображением художника, составляет главный смысл серии. Думаю, подобно тому, как имена в «коммунальных» альбомах и картинах Кабакова апеллируют к идеологическому полю, имена у Кочейшвили апеллируют к полю акустическому. Они эхом отзываются в колоннадах и пилонах траченной временем провинциальной архитектуры… Долгое звучание всех этих округло выведенных «о» и «а» – знак не идеологического, а человеческого присутствия, след частной жизни…
Постепенно то, что мы называем декорацией в театре Кочейшвили – разного рода предметные реалии – начинают играть всё более самостоятельную роль. Они не просто организуют драматургию, они начинают солировать. Я думаю, что эта установка была опробована уже в 1980-е годы в серии перовых линеарных рисунков «Ворота», «Скала», «Сторожка» и др. Это – мотивы архитектурного происхождения, в основе которых воспоминания о волюмах, по которым штудируются элементы ордера и исторических орнаментов. Однако графическая реализация – сугубо авторская. В самом рисовании заключена некая энергия усилия, преодоления сопротивления, возможно, это отзвук офортного опыта, в котором создание линии есть результат суммы усилий: процарапывание, травление, набивка углубления цветом, оттискивание с металлической формы. Всё это придаёт линеарности какую-то особую основательность. Она сама по себе, в своей выверенности и неслучайности, носит сдерживающий характер, как бы уравновешивая фактор импровизационности и непредсказуемости (практически – потребность разогнавшейся руки выйти из под контроля предметности, вести за собой куда-то вовне: философ В. Подорога, исследовавший антропологические аспекты рисования, справедливо говорит о ритмах телесного чувства). Этот хрупкий баланс сил присутствует и на уровне формообразования: классические архитектурные архетипы деформируются под воздействием каких-то стихийных сил , теряют конструктивность и логику построения. Между тем, и деконструкции, распада не происходит: выгнутые, ломкие, скрученные архитектурные формы – собственно, руины, тем не менее, сохраняют устойчивость. «Держит» изображение не тектоника, а, скорее, метафизический ресурс белого: белизна листа, проникающая между основательно проведенными линиями, заползающая в многочисленные арки, окна, проёмы…
В работах 1990-х гг. предметности – кущи, баскеты, беседки, парковые вазы, руины, ворота, башни – как уже говорилось, начинают брать на себя всё большую роль. Они всё чаще подменяют пантомиму персонажей: у них свой театр мимики и жеста. Более того, они выступают в качестве вершителей судеб – определяют ресурс витальности персонажей, в буквальном смысле – их жизненность, жизнеспособность (В «Мужском и женском»- даже половую принадлежность). Не то чтобы это были «хищные вещи века» - нет, в их пластике нет мессаджа угрозы и агрессии. Просто эти предметности (бывшие декорации) завладели символическим правом определять границы бытия. В работе «У реки» белая (нетронутая мелованная бумага) полоса реки выглядит в буквальном смысле пограничной между двумя берегами бытия.
Речь вовсе не обязательно идёт о жизни и смерти. Чаще -о земном и горнем. О материальном и спиритуальном. Наконец, о бодрствовании и о сне - физическом состоянии и сне - художестве. По П.Флоренскому, сон разделяет мир видимый и мир невидимый, он же, как «оплотненное сновидение», метафизически идентичен художеству. В работе «Анна рисует» фигура художницы, сомнамбулически самопогруженная, бесплотна и спиритуальна : сон творчества уравнивает её в ангельском чине с действительными служебными духами ( «Ангелы и кресты»). В «Ню» зеркало не отражает обнаженное тело: это воронка в инобытие. Зритель становится свидетелем своеобразного противоборства – телесность сопротивляется дематериализации.
В 2000-х Кочейшвили всё чаще обращается к живописи. Метафизический привкус здесь ещё ощутимее. Мотивы архитектуры (барочные волюты и завитки, руины колоннад и фрагменты антаблементов) парадоксальным образом формируют пейзаж, судя по названиям («Поле», «Солнечная опушка», «Просека») природный, натурный. Но «нетронутой природы», похоже, для художника не существует: она «насквозь» авторизована, проникнута реминисценциями художественного, театрального и архитектурного планов. Поэтому этот «сложносочиненный» пейзаж становится идеальным полем реализации какой-то внутренней внесюжетной драматургии художника: пластической, ритмической, оптической. Однако заявленные художником сюжеты никогда не выступают в «чистом», абстрактном виде. Всегда существует некая образная подоплека сценического происхождения. Так, в «Лесе» торжествует идея очищенной от натуралистических ассоциаций ритмической структуры. Однако возникает и драматургический, сценический эффект замкнутости: собственно «сцена» углом врезается в «кулису». И не пробивает её. Драма безысходности? А в картине «Лес. Просека» роща (с явными реминисценциями руинированных колоннад – своего рода двойная декорационность) как бы поднята под углом на сценическом планшете. Подиум рассекает её и уходит куда-то в закулисье: выход? исход?
Вообще Кочейшвили остро переживает диалектику «сценического» и естественного, органического. Она нередко становится специальным «внутренним» сюжетом. Так, в работах «Улёт», «Дверь в лес» живописное действо разыгрывается в специально подготовленном сценическом, даже сценографическом, пространстве. Конечно, и это «живописное» далеко от натурно-миметического: оно осуществляется в виде цвето-тональных растяжек, штудий светосилы цвета. Как будто художник разыгрывает матюшинские опыты по цветовой органике: «состояния смотрения» по горизонтали, вертикали, из центра, по двум перпендикулярам.
Многослойная природа образности Кочейшвили даёт основания многообразным толкованиям. Художник не склонен направлять реакции зрителей, однако, он, похоже, боится излишних экзальтаций провиденциального толка (того, что насмешники из рядов младоконцептуалистов назвали в своем «Словаре терминов московской концептуальной школы» «духовкой»). Поэтому он не только подчеркивает в своих работах сценичное начало, но не устаёт напоминать о начале авторском: это именно мой театр, театр моей жизни, моего сознания…Любопытна в этом плане работа «Проект дома». Я бы сопоставил её (хотя бы по предельной избирательности предметных реалий, по явному онтологическому замаху) с поздними натюрмортами Д.Краснопевцева. Кочейшвили проектирует дом над рекой жизни из предметов со знаковой нагрузкой, каковую несут и сосуды и растения у Краснопевцева, - колонны с фрагментами антаблемента, какие-то завитки декора, световые окна и пр. Всё это – у обоих художников – трачено временем, разбито. У Краснопевцева эти утраты (сосуд – мера формы и хранилище универсалий, никакие трещины не дадут его содержанию уйти в мир) свидетельствуют о вечных законах метафизического, которые выше бытовой физики ( согласно которой, содержимое битого сосуда неизбежно вытечет вовне). Кочейшвили как будто и не думает о всеобщих законах и о течении времен: он просто проектирует, прикидывает мысленно дом по себе из любимых своих материалов. Дом кривой, неустойчивый, утлый, продуваемый ветрами, готовый обвалиться в реку в любой момент, – но это именно то гнездо, в котором художник может жить. Для Краснопевцева такая неосновательность, несерьёзность невозможна : прикосновение к универсалиям бытия, при понимании человеческой неспособности проникнуть в их сущности, для него высоко трагедийно. Молчаливо трагедийно: форма завершена и «окончательна», - никаких намеков на развитие быть не могло. Кочейшвили не то чтобы не хочет, говоря современным молодежным языком, «грузить» себя и зрителя неразрешимыми проблемами бытия. Нет, единственное, в чем он уверен – невозможность ни на йоту уступить в авторизации: мой дом, мой театр. Здесь он волен менять масштаб: бытовые предметы равны по масштабам человеческим фигурам («Женщины и посуда», «Прогулка-пикник»). Менять режим протекания времени («Пляж в Лайм-Риджис», «Свинцовая река»). Свести на одной дороге земное и горнее... («Прогулка с ангелами»).
Думаю, к рельефу художник обратился в контексте той же диалектики материализации-дематериализации. Она конкретизируется здесь как тема присутствия. Кочейшвили разрабатывает авторскую технику рельефа с использованием ПВА и ротбанда, гиповой смеси строительного назначения. Рельефы существуют как в белом варианте, так и в акриловой раскраске. Техника имеет некоторые ограничения в свободе лепки – условно говоря, её подвижности, импрессионистичности. Лимитирована и высота рельефа. Зато вполне реализуема сильная, по собственному признанию художника, его творческая сторона: композиционность. У Кочейшвили есть лаконичное стихотворение: «Утро пустое /подожди /не суй в него/ чего ни попадя/ пусть». Так вот, думаю, композиционность в его понимании и есть поэтика заполнения: пустотность заполняется самым важным, образ освобождается от «лишнего» – инерции движения кисти, всех этих необязательных арабесков и касаний. Наверное, именно в рельефе художник добивается эмблематичности («Ангелы», «Семья») – задача, которую он не ставил в живописи. Эмблематичность не переходит в семиотичность, чистую знаковость: даже если художник оперирует устойчивыми изобразительными архетипами, он наделяет их плотью, планообразующим потенциалом.
Материализация и дематериализация как манифестация движения жизни, и всё это – под знаком поведенческого и творческого артистизма… Конечно, осознанно или нет, но Кочейшвили как-то соприкасался с мастерами метафорической линии (Д.Краснопевцев, М.Шварцман и др.). Более того, если его творчество и подлежит контекстуализации, то в русле этого движения. Но (возвратимся к названию статьи), наша птица не из тех, кто, дав увязнуть коготку, «пропадает», то есть позволяет себе увязнуть в уже состоявшемся дискурсе. Оставив отпечаток коготка, этот дрозд продолжает самостоятельный полет. Собственно, «отвязанностью» полета он и интересен.