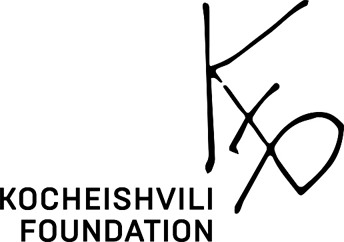Борис Кочейшвили, художник воздуха.
Борис Кочейшвили стал заметен на художественной сцене в 1970-е. В тогдашних кистевых рисунках тушью на мелованной бумаге персонажи, в основном женщины, гуляли в парках, отдыхали, беседовали — их фигуры, ритмически отзываясь на криволинейность пространства, выглядели так, словно их застигли в момент игры в «замри» или увидели во сне. Сюжет ускользал, но в таком ускользании не было ни многозначительных намеков, ни предложения разгадать ребус: казалось, в этой легкой по строю графике ничто не утверждается, но мерцает нечто, относящееся и к базовым состояниям человеческого тела, и к таким же состояниям форм — может быть, к их равновесию (недостижимому?).
У кого-то из интеллектуалов промелькнуло тогда — видимо, в частной беседе — слово «театр» (или даже «поэтический театр»?). Позднее сам автор укажет на родство своего искусства с театром: «Театр я люблю. Может быть, поэтому и персонажи моих картинок ведут себя как герои неизвестного мне спектакля» 1. Но вначале признание театральности как бы объясняло, а отчасти и оправдывало прием остранения, исключающий саму вероятность буквально расшифровать изобразительный текст и в принципе воспринять его как адресованное кому-то «послание». Интерпретация здесь оказывалась возможна лишь в самом общем ключе — в готовности опереться на культурные аллюзии или увидеть во всем этом метафорическое воплощение бытийной проблематики 1970–1980-х: тревоги и жажды укорененности, размышлений о свободе, тематизации преодоления земного притяжения. Впрочем, выяснилось, что именно такая проблематика вовсе не жестко увязана с временем, и творческая эволюция художника, для которой характерно прирастание мотивов внутри опорной структуры целого, — тому свидетельство. Впоследствии стало понятно и то, что «настроенческая» шкала здесь шире, чем представлялось ранее: она охватывает регистры от чеховского меланхолического томления («Три сестры» — один из сквозных сюжетов) до гротеска на грани с карикатурой.
В одном из своих эссе Борис Кочейшвили охарактеризовал собственное искусство развернуто и точно: «Во мне живут и борются два начала. Одно — свободное, переливающееся, дымообразное, вращающееся, находящееся в постоянном движении. Другое — статичное, жесткое и простое, как русская изба (четыре плоские стены, накрытые крышей, что может быть проще) или супрематизм Малевича. Проблема сочетания, соединения этих двух начал в пространстве одного листа меня всегда чрезвычайно занимала. И когда я рисую, я пытаюсь совместить несовместимое, соединить в одном месте, в одной картине их так, чтобы они не враждовали, но находились в любовных отношениях... Все искусство строится на контрастах. И я стремлюсь эти контрасты сначала воплотить и тут же примирить. Примирить пышность, развратность, сладость формы с аскетизмом, логикой и металлом» 2. Эти слова были произнесены, когда первоначальный спектр сюжетов значительно расширился — к «людям» добавились «пейзажи» и «архитектура» (башни, дворцы и церкви, ворота, причудливые фрагменты антаблементов, барочных обломов, волют и конструктивистских решеток), и разнообразными сделались техники — кроме кистевых рисунков тушью, появились тончайшие перовые, потом возникли акварели, живопись (масло и акрил на оргалите), пастели на гофрокартоне, коллажи и гипсовые рельефы. На первый взгляд, полнота автохарактеристики блокирует любые аналитические (и даже панегирические) речи «со стороны»: в случае с «говорящими», а тем более «пишущими» художниками дополнительные попытки искусствоведческого говорения часто выглядят «умножением сущностей». Однако можно попытаться прояснить контекст подобного самовосприятия и отследить его корни, начав издалека — с того круга, которому, как считалось, принадлежал Кочейшвили в ранние годы.
Собственно, «круг» — не вполне точный термин. Скажем осторожнее: некая мерцательная конфигурация, но все-таки с внятным ядром, которая обозначилась в совокупной картине отечественного изобразительного искусства 1970-х — здесь сосуществовали живописцы и графики, люди «глубокого андерграунда» и люди, в той или иной мере присутствующие на выставочной «поверхности». Они жили и работали в одно время и на одной территории, но не вместе, потому что это не было общностью — множество одиночек дорожили собственной «штучностью» и избегали «потока». Если что и объединяло этих очень разных художников, то лишь стремление уйти из-под власти натурного видения, выстроив сугубо индивидуальное, «сочиненное» пространство: тогда это называлось высокопарно — «авторский мир», а авторов именовали то метафористами, то метафизиками — конвенционального обозначения для этого артхауса в изобразительном искусстве так и не появилось. Зато в этой среде по умолчанию утверждалось постоянство языка, словаря персонажных и символических конструкций, что мотивировалось присутствием единой «истины» поверх императивов конкретной техники и конкретного метода. Сквозные сюжеты, предполагающие скорее не формальный, а мотивный анализ, могли разветвляться и обрастать вариациями, но основам уникального художнического пространства была как бы заповедана неизменность и, следовательно, безошибочная узнаваемость.
Работы Бориса Кочейшвили безусловно узнаваемы — работы любых лет и любых серий. Пожалуй, и распределение их по сериям или циклам имеет в некотором смысле подсобный, технический характер: точкой отсчета очередного цикла становится переход к иному материалу, миграция от ювелирной линейности к акварельному расплыву или от прозрачности к заполненности — как и наоборот. Кстати, потребность время от времени «обновлять руку» не была слишком популярна среди «метафизиков», и в этом смысле Кочейшвили отличался от многих, для кого «ремесленное» оказывалось не то чтобы в небрежении, но в тени забот о философской наполненности художественного высказывания. Тем более ему оставались чужды культивируемые здесь серьезность и мессианский пафос; утверждения типа «меня волнует проблема, как качнулась фигура, как она стоит» 3 означали перевод из высокой сферы персональной мифологии в пластический регистр. Как бы в противовес метафизической велеречивости (которая, в свою очередь, выглядела реакцией на «цинические речи» набиравшего силу концептуализма) сквозной сюжет его графики, а позже и живописи строился на нарочито легких модулях. И тут стоит сменить прошедшее время на настоящее: так организованное пространство и такой интонационный воздух оказываются неизменным признаком этого искусства.
Неустойчивые длиннорукие фигуры с трудом удерживают равновесие на покатой, наглядно скругляющейся земле — а чаще и не удерживают (одна из работ называется «Наклонные женщины»). Вертикаль дребезжит, хочет стать диагональю или вовсе упасть; горизонт заваливается; «школьная» перспектива аллей и лесных тропинок сходится в тупик. Геометрия пространства колеблется между сферой и конусом. Криволинейная, безвекторная, неуверенная в себе вселенная, — но в ее дугах латентно содержится отчасти адресующая к иконному строю гармония, и образ рая (рай представлен одноименной серией) не предполагает ни симметрии, ни структурной незыблемости.
Сам художник, надо сказать, видит свое пространство иначе. «Как правило, мои композиции, — говорит он, — всегда строятся на плоскости треугольника — самой устойчивой из фигур. Жесткий треугольник, или квадрат, поделенный на треугольники, — это та пространственная основа, которая постепенно начинает населяться барочными формами»4. Однако на гранях треугольника трудно удержаться, а барочные — то есть антирегулярные — формы своей неожиданной экспрессией способны дезорганизовать любую структуру. Дорога вдруг скручивается рокайльным завитком, поверхность пола, стены или стола выгибается, готовая свернуться в свиток. Архитектурные мотивы, или архитектурные фантазии как отдельная тема появляются у Кочейшвили в 1980-е (серия «Перовое барокко»), но довольно быстро теряют тематическую обособленность: они вторгаются в жизнь персонажей, соединяются с пейзажем, а порой и становятся пейзажем. Затейливая, вензелеобразная линейная конфигурация может оказаться полем, рекой или скалой, рукотворное уже неотличимо и неотделимо от природного: волна, ударяясь о скалу, образует вполне барочный абрис пены — получается, что культура только ловит и удерживает эти мгновенные ландшафтные состояния, превращая их в свои постоянные, непреложные знаки. Знаки барочного порыва, воли — и знаки упорядоченности, конструктивистских плоскостей и углов. В работах Бориса Кочейшвили они сталкиваются, проникают друг в друга, вступают в диалог.
В значительной мере это знаковое начало опиралось на реалии — причем реалии местные. И в изображениях барочных церквей угадывался общий прототип — церковь Знамения в Дубровицах (неважно, что она была построена итальянскими мастерами), и усадебная архитектура, на фоне которой часто происходит действие, опознавалась как русская, непременно заброшенная, почти руина (вообще, переживание руинированности, утраты важно для автора). Однако примерно с 2000-х сопряжения вещей и людей все чаще становятся сопряжениями неопознанных форм; не только архитектура, но и «предметное» в целом — там, где нет прямой связи с фигуративными мизансценами — склонно редуцироваться до «беспредметного». Даже когда в названии картины заявлен определенный мотив («Камыши», «Весна», «Любовники»), отсылка оказывается ложной. Происходит движение в сторону абстракции — тем не менее и абстрактное отчасти сохраняет повторяемость фонем: овалов, треугольников, дельтоидов. Формируются гнезда значений: сходящиеся в конус условно дощатые полосы образуют лесную просеку («Лес», 2007) или архитектуру («ВДНХ», 2007); узкие плоскости, построенные шеренгой, назначаются штакетником забора, изгибаясь, становятся камышом, складываются в «Замок» (2020) или просто символизируют движение («Движение», 2000). Вот прямоугольная плашка, заполненная геометрическими элементами, именуется «Осень. Река», а вот примерно она же, смещенная к краю картинной плоскости, открывает «Движение в лето». Движение — вообще важный сюжет этого искусства, и оно буквально материализуется в острых столкновениях форм, в балансирующих, как бы готовых мгновенно видоизмениться композиционных структурах, в мотиве проема — окна или портала, — обещающего выход в иную реальность или демонстрирующего невозможность подобного выхода.
Можно, конечно, представить, что это движется декорация или занавес. Формула «театр Кочейшвили» позволяет уподобить пространство листа сценической коробке с ее структурой (авансцена, просцениум, декорация, задник), наложенной на ландшафт (земля — вода — дальний лес или гора — небо). Персонажи — ими могут быть и люди, и предметы, и фантастические, сочиненные объекты — выходят из-за кулис, выстраиваются у линии рампы или замирают в позах, фиксирующих какие-то незавершенные, неутоленные порывы, — часто вопреки гравитации. Сценарии их поведения исчислимы, как исчислимы мотивы картин, но совершенно разными выглядят башни и замки, ужины и завтраки, игры и разговоры, образы дома и образы рая. Словно бы все это есть совокупность режиссерских версий некоего спектакля, драматургическая основа которого постоянна, но способна сделаться неузнаваемой при смене постановочных акцентов.
Акценты расставляются посредством изменения материала и цветового строя, переключения оптики, переходов от пристальности к обобщающей редукции форм — и обратно. Вот, например, фигуры, увиденные в дальней перспективе, пребывают во времени continuous — здесь что-то длительно происходит, но ничего окончательно не случается, и нельзя определить сюжет словом. Но те же фигуры, запечатленные крупным планом, соединяются в пары и группы в моментальном, почти импрессионистически схваченном психологическом взаимодействии, в конкретных и остро увиденных ситуациях; теперь у них есть лица, которые совсем чуть-чуть уступают по индивидуальности лицам с портретных рисунков (кстати, эти рисунки пунктиром проходят через все творчество художника). Мотив, в голубой гамме кажущийся прозрачным и призрачным, сначала становится иным при оплотнении цвета, а потом и вовсе иным в рельефах (гипс на оргалите, фанере или ДСП), где минимализм форм корректируется тактильной пастозностью. Виды чужих городов и стран «заслуживают» внятной линейности (своего рода акт апроприации), тогда как композиции, за которыми нет натурного источника, могут сновидчески «таять» в блеклых размывах краски. Что же касается прототипов общекультурного свойства, то они самыми разными способами вживаются в авторский поэтический нарратив: скажем, три сестры (этот чеховский сюжет, более всего связанный здесь с переживанием неприкаянности, заслуживает отдельного рассмотрения) при проявлении цвета вдруг обретают имена. Цвет и сам по себе часто составляет сюжет: есть вероятность разглядеть натюрморт или пейзаж в картинах «Золотое, черное, зеленое», «Голубой свет» или «Зеленое и синее», но, в сущности, эти колористические вариации самодостаточны и не нуждаются в жанровых опорах.
Сам художник, как уже упоминалось, говорит о своем искусстве с той полнотой, которая едва ли откроется при взгляде извне. Так что, наверное, будет уместно завершить эту попытку текста выдержками из размышлений автора:
«Многократные попытки собственного натурного рисования меня мало удовлетворяли — всегда был разрыв между стремлением и результатом. Стремления были всякими и зависели от разных причин — результат был всегда почти одинаков. Даже несмотря на внутренний настрой, каждый раз заново возникающий, способный менять и меняющий не только тон или цвет предмета, но и все остальное: характер, вес, масштаб, положение в пространстве, взаимосвязь и т.д.» 5
«...Для меня жизнь, которую я хочу нарисовать, — это совокупность существующего и невероятного, услышанного, мелькнувшего и придуманного, прочитанного и ожидаемого. Очень характерный пример — поездка в электричке. Вагон движется, стоит; люди входят, выходят, молчат, разговаривают; меняется пейзаж; заоконный мир проникает внутрь — мир вагона рвется наружу, а ощущение от всего цельное. Как это нарисовать?» 6
«Неожиданно начал возникать мир, сотворенный из знакомых предметов заново, — это оказалось интересным. Появилось отношение к искусству как к игре и развлечению, в которых есть место даже шутке, нелепости и розыгрышу…» 7
«Передо мной лист бумаги. Макаю перо в тушь и, преодолевая страх перед белой поверхностью, наспех провожу какие-то линии — это уже начало. Пространство начинает образовываться. Оно все подчиняет себе: и знания, и опыт, и навыки, и мысли. И сам ты ни на чем настаивать не можешь, разве что советовать: вот здесь отдохни, здесь пропусти, здесь не бойся, заканчивай...» 8
- 1. Кочейшвили Б.П. Размышления художника [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://www.kocheishvili.foundation/essay/artists-thoughts (дата обращения: 17.07.2021).
- 2. Кочейшвили Б.П. Барокко и конструктивизм [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://kocheishvili.foundation/essay/baroque-and-constructivism (дата обращения: 17.07.2021).
- 3. Герчук Ю.А. Неведомые комнаты искусства [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://kocheishvili.foundation/about/unknown-art-rooms (дата обращения: 17.07.2021).
- 4. Кочейшвили Б.П. Барокко и конструктивизм [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://kocheishvili.foundation/essay/baroque-and-constructivism (дата обращения: 17.07.2021).
- 5. Кочейшвили Б.П. Размышления художника [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://www.kocheishvili.foundation/essay/artists-thoughts (дата обращения: 17.07.2021).
- 6. Кочейшвили Б.П. Размышления художника [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://www.kocheishvili.foundation/essay/artists-thoughts (дата обращения: 17.07.2021).
- 7. Кочейшвили Б.П. Размышления художника [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://www.kocheishvili.foundation/essay/artists-thoughts (дата обращения: 17.07.2021).
- 8. Кочейшвили Б.П. Размышления художника [Электронный ресурс] // Фонд Бориса Кочейшвили. — URL: http://www.kocheishvili.foundation/essay/artists-thoughts (дата обращения: 17.07.2021).