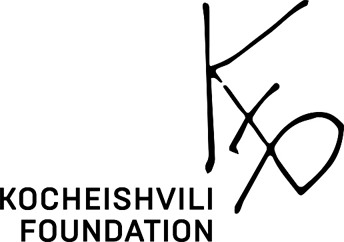Неведомые комнаты искусства.
Юрий Герчук, искусствовед. На Вашем творческом вечере Токмаков говорил с какой-то откровенной завистью о мирах, которые он увидел в Ваших рисунках. «Ведь он там был», - сказал он о Вас, и мне это понравилось. Пожалуй, мне в Вас интересно именно это - открытие своего какого-то мира. Да и вообще, эта сторона творчества мне кажется сейчас особенно заметной и важной. Не того ли мы называем художником, кто может на листе создать свой собственный мир и приглашает нас вступить в него?
Борис Кочейшвили, художник. Надо сказать, что я на эту тему никогда не думал. Ну, как сказать? Вот говорят: «А как Вы связываетесь с жизнью?» Живу! Конечно, если потом анализировать, то он не на пустом месте возник. Если вспомнить, чем я занимался и как к нему шел, то все толчки - они очевидны... Но этот мир - его искусственно не сконструируешь. Либо он есть, либо его нет.
Герчук. А что же вы изображаете? Вроде бы реальность. Вот - девушка на балконе. И все-таки ведь не совсем реальность.
Кочейшвили. Но у меня другой нет! Мне не приходит в голову изобразить другую реальность. Значит, это единственная? Значит, она есть. Я встаю утром и не думаю: «А дай-ка я изображу какую-то там другую реальность».
Герчук. У Вас было несколько разных периодов, по языку разных, и мир создается разный. Когда-то Вы делали силуэтные линогравюры, и были там другие задачи: и пластические и повествовательные. А потом - большой цикл литографий на литературные темы и не на литературные. Они тоже в общем были повествованием, то есть литературой, но какой-то уже своей. Там было неопределенное пространство, населенное многими персонажами. А когда Вы перешли к этим большим листам, сделанным тушью, вновь появился какой-то другой мир. Вот при следующем переходе, к цвету, я не вижу такой перемены: здесь тот же мир, и в черных и в цветных листах.
Кочейшвили. Кто-то говорил: «Вчера я сделал хорошо, завтра - сделаю лучше, а перед смертью создам шедевр». Может быть, это иллюзия, может быть, такого не будет, но движение есть все время, убеждение, что ты можешь продвинуться в своем искусстве. Мне вообще нравится поздний Гойя, поздний Рембрандт. Конечно, не у всех художников так происходит, когда к концу жизни «покой и воля» берут верх над честолюбием, тщеславием и прочим, когда уже не до этого. Лично мне нравятся какие произведения? В которых я вижу отважное поведение художника. Есть точное определение Бориса пастернака: «Корень красоты - отвага».
Герчук. А в чем смелость?
Кочейшвили. В каком-то отважном служении внутреннему чувству. Раболепное служении своему высшему началу - тому, что тебе дано. Дано, может быть, всем художникам. Но большая часть просто не пытается даже заходить в «эти комнаты» своего таланта. Они просто открыли первую дверь и удовлетворились этим. И только отважные люди ходили в те дальние, куда - «не ходи, козленком станешь», «не открывай». Они открывают с риском своротить себе шею. Но когда в эти потаенные комнаты входит второй, третий - целая орава, становится тесно... А первый момент вхождения в тайные комнаты искусства остается всегда только твоим. Кажется, что войдет за тобой второй, третий и сделает больше, но не бывало так. Дальше и больше Сезанна пока никто ничего не сделал, хотя казалось: открыт путь и целый сезаннизм лежит на двадцатом веке, - все равно, есть один Сезанн. Вот эти первые комнаты, точнее, школьные, ученические - они у всех общие, а следующие у каждого - свои... И у меня есть вот эти неведомые комнаты. Как только до них доберешься, то очень вольготно себя чувствуешь: радостно творить, не мучаясь. Я такие периоды знал несколько раз.
Герчук. Ну, что же. Попробуем вернуться в Ваши комнаты, к задачам, которые Вы себе ставите. Мне хочется спросить Вас о характерной, впрочем, не для Вас одного, повторности, серийности работ. Не в смысле последовательного развертывания сюжета в ряде листов, но в многократном варьировании какого-нибудь облюбованного, иной раз очень простого мотива - человеческая фигура или интерьер, дом с окружающим пространством.
Кочейшвили. В принципе одну и ту же форму можно изображать всю жизнь и выражать ею все что угодно, все, что происходит в мире. И не только форму человека - это вообще бездна, а простую форму - сарай, дерево или лампы... Человек может выражать этим не только собственное состояние, а состояние искусства на сегодняшний день, что в мире происходило – не прямым информационным путем. Бутылки у Моранди – в них целиком двадцатый век весь виден… это персонажи из Чехова, которых Шекспир написать бы не мог. И Шарден не мог написать эти бутылки. Но в общем, это все равно бутылки. Кастрюля есть кастрюля, хоть ты ее куда, а вот возможности ее изображения бесконечны, и драматическое выражение может идти через самую простую форму. Есть драматизм форм – трагическое, бесконечное столкновение разнообразных форм, приведенных в какую-то гармонию. И для того чтобы искусство было драматичным, вовсе не обязателен прямой трагический сюжет, например Иван Грозный, убивающий сына. Вот у Гойи в королевской семье – такая борьба, столкновение и богатство всякого рода форм, их поворот, сочетания… Задание-то было литературное: написать семью Карла VI; но это многие другие сделали бы гораздо лучше. А он занимался вот такой проблемой: у него четырнадцать или двенадцать форм столкнулись на одной плоскости, и происходит борение.
Сейчас меня особенно сильно волнует скульптурность изображения. Эту скульптурность я вижу у массы художников, которые никогда скульптурой не занимались. Я думаю – это один из самых сильных способов воздействия. Гойя вообще скульптурой не занимался, между тем он всегда скульптурен. У Рембрандта все скульптурно. Меня волнует проблема, как качнулась фигура, как она стоит. И в этом плане у Гойи тоже невероятно много интересного.
Герчук. Я думаю, подобные наблюдения характеризуют не только классиков, в холсты которых вы вглядываетесь, но прежде всего – вашу собственную работу, те задачи, которые вы стремитесь в ней разрушить?
Кочейшвили. Многие художники, не отдавая себе отчета, всю жизнь решают сугубо ученические задачи. В их холстах существует тип «картинного человека», шаблонного. А ведь каждый человек невероятно характерен; близкого человека мы способны узнать и в незнакомой одежде, и в необычной обстановке, и на большом расстоянии. А часто в картинах – люди одного роста, одного жеста, одних пропорций. У подобного «картинного человека» не бывает коротких ног… А вот маха обнаженная у Гойи – у нее странно короткие ноги. И это красиво. Деревья больше похожи одно на другое, чем люди. Ива – она и есть ива, склонилась над прудом. А человек, склонившийся над прудом, – бесчисленное множество форм, самая богатая природная форма. Но ее надо видеть!
Герчук. Итак – путь ведет вроде бы к натуре, к непосредственному, конкретному наблюдению мира, как он есть? На мой взгляд, вы до сих пор – представитель иной линии нашего искусства, обращенный более к миру внутреннему, чем внешнему…
Кочейшвили. Я вас не совсем понимаю. Мир внешний – это то, что окружает меня, или тот мир, который я создаю, рисуя? В искусстве Востока нет противопоставления мира внешнего миру внутреннему. Да и рисуют они всегда реальный мир. Будь это одна веточка или листик. В эту сторону мне бы и хотелось двигаться в моем творчестве.
Герчук. Я имею в виду вот какую сторону дела. Не так давно И. Голицын писал о В. Вакидине: как-то на Сенеже были конкурсы, в том числе на тему «Дерево», и Вакидин с некоторым удивлением говорил ему, что только он, Вакидин, нарисовал это дерево просто с натуры.
Кочейшвили. Да, Вакидин в данном случае хорош, и ведет себя как художник. Но я у того же Вакидина видел иные вещи: крохотные гравюры на дереве, где нет и следа рисования с натуры по внутренней потребности, потому что он «такой». Я думаю, он и тридцать лет назад дерево нарисовал бы с натуры и тогда тоже был бы художником. Другие нарисовали бы дерево с натуры, но не так, как он.
Кочейшвили. Ну, хорошо. Давайте так поставим вопрос: кто из современных художников, по-вашему, рисует объективный мир, не выдумывая, и в то же время приближается ближе всего к реальной жизненной правде?
Герчук. Вы знаете, я так ставить вопрос не могу, потому что реализм для меня вещь вовсе не простая. Взаимоотношения художника с натурой бываюточень неоднозначными, а порой и парадоксальными. И я задавал свой вопрос не для того, чтобы получить элементарный ответ, а потому что мне хочется понять, как Вы ощущаете свою работу - в ее отношении ко всему: и к тому, что делают другие, и к тому, что служит не моделью в буквальном смысле слова, а источником Ваших рисунков.
Кочейшвили. Это вопрос сложный... Ведь в конце концов все то, что можно назвать словом «искусство», - это реализм?
Герчук. Есть два типа восприятия. Есть художники, и притом очень серьезные, совсем не натуралистически ощущающие свою задачу, для которых все, что они могут сделать на холсте или на бумаге, должно быть порождено какими-то импульсами, идущими непосредственно от натуры. Вот Михаил Иванов ходит по Москве, ставит свои холсты в любую погоду - под дождем, под снегом - и старается нечто поймать, а без натуры он этого делать не может. Другой - ну, скажем, Юлий Перевезенцев - с натуры не рисует, у него весь его мир - ну, конечно же, реальный, и я много могу сказать о том, из каких жизненных впечатлений он складывается - уже внутри. И для того чтобы рисовать, ему не нужно смотреть. Весь этот мир в нем заложен и выдается наружу. Впечатления «входят» в него в одно время, а «выдаются» - в другое, и, конечно же, совсем в ином виде, чем у Иванова, который стоял перед пейзажем и писал этот пейзаж. Он жил тогда в резонансе со своей натурой, собственно, резонанс и делает его работу искусством. Если бы резонанса не было, то получился бы просто «вид с натуры». Но для меня оба эти отношения, оба способа работы одинаково законны. И оба названные для примера художника мне нравятся. Притом сейчас и то и другое направление имеет немало достаточно серьезных последователей.
Кочейшвили. Понятно. Но художник рисует все время, ежедневно. Даже если он в данную минуту не держит карандаша в руке, не изображает непосредственно на бумаге, он рисует. Вот Голицын рассказывал, - мне очень понравилось, - они с Егошиным, художников из Ленинграда, прогуливались по Москве и, по выражению Голицына, «ходили и рисовали взором». Ну, то есть они смотрели архитектуру. Конечно, это было рисование. Без жизненных соков можно стать стерильным, как дистиллированная вода. А если не бродят реальные соки, реальная кровь не течет в работе художника, то грош ей цена. Это... как бы сказать? - объединяет тебя с самим собой. И ты, стоя перед зеркалом и причесываясь, все равно видишь, какой ты реальный человек. Как ни выдумывай, как ни ходи, дальше себя не уйдешь. Реализм - это объединение тебя с самим собой. Ты можешь уходить, твои мысли, твой дух могут витать очень далеко, но оболочка реальна. Все время дух куда-то стремится удрать, воспарить над тобой и диктовать. Но мне сдается, что вот эта изначальная наша форма человеческая, она всегда возвращает. И я думаю, что этого соединения немногие достигают. Можно достичь полной свободы духа, полной - и лететь куда угодно, в какие угодно «заоблачные выси», но все равно возвратиться на реальную почву, будешь стоять перед зеркалом. Хождение за Гималаи и стояние перед зеркалом! Эти две вещи неизбежны.
Герчук. Мне интересна Ваша мысль о художнике, как модели для самого себя и не только в автопортрете, а вообще о том, что ощущение своего тела, движения воплощается в зримый образ, даже когда рисуется что-то другое. В процессе творчества художник общается с самим собой и познает себя. Но это процесс, а вот результат вроде бы «выдается» наружу, он обращен к какому-то внешнему лицу, к зрителям. И тут может возникнуть уже отношение со зрителем, который как-то персонифицировался, представляется вам в каком-то образе. И с ним - разные отношения: сверху, снизу, а может быть, и сбоку. Может вестись и какая-то игра, даже мистификация. Скажем, вот в некоторой непонятности вещи может быть замысел, вовлекающий в отношения более сложные.
Кочейшвили. Нет, у меня нет внутреннего желания ни морочить зрителей, ни мистифицировать.
Герчук. Но есть ощущение зрителя?
Кочейшвили. «Ощущение зрителя»? Скорее всего такое: «Извини, не мог лучше». А что он поймет, у меня полное убеждение. Иначе не может быть. Более того, он в первую очередь всегда поймет недостатки. То есть достоинства он поймет сразу, для этого стараться не нужно. Но он поймет сразу и недостатки. Я заранее как бы извиняюсь за это. Зритель получается как бы адекватным мне самому. Потому что я к себе так отношусь. Этот зритель, в общем, на меня похож. Разговор с ним - на равных; этот зритель - одновременно ты сам. Может быть, смысл работы художника в радости общения двух людей, в неожиданной их встрече, породившей близость его и зрителя.
Герчук. Я думаю, что это очень ценное качество - умение доверять зрителю, его суждениям и чувствам и, значит, не дешевить, не портить «для понятности» свою работу, быть в ней самим собой и в зрителе чувствовать «родную душу». Бывает, этого недостает в иных произведениях... И мне хочется пожелать, чтобы Ваши работы нашли себе именно такого зрителя, чуткого и умного, откликающегося на самые тонкие движения души и кисти художника.