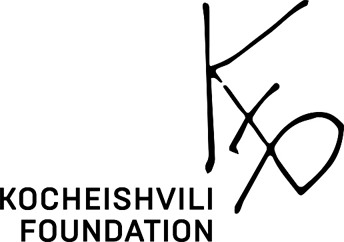Беседа записана на выставке «Архитектурная графика Бориса Кочейшвили», которая проходила в галерее ВХУТЕМАС с 31мая по 18 июня 2010 года.
Б.К. Я могу с самого начала что-то вроде преамбулы дать. Я учился в училище 1905 года. Преподаватели ничего не умели преподать, и все образование, какое у меня было, - это мои личные усилия. Хотя я думаю, что среди тех, кто учится, так оно происходит со всеми. Все учатся, но если твоих личных усилий нет, то никакие педагоги тебе ничего тебе в башку не забьют. И так случилось, что когда я кончил училище, то я стал родственником Кирилла Фомина. К.Ф. это внук знаменитого архитектора Ивана Фомина и философа Эрна.
А.П. - Владимира Эрна.
Б.К. – Да. И таким образом я сразу вошел в круг архитекторов. Не художников, ведь откуда художники — мальчишка только кончил ПТУ, какие художники, где их взять… Каждая картина в раме и на холсте уже вызывала у меня трепет. Выпускники Суриковки конечно писали огромные картины, дипломные работы у них были, что твоя «Боярыня Морозова». Но я ни одного такого «настоящего» художника в то время не знал. Зато попав в среду Кирилла Фомина, я сразу окунулся в сердцевину и традиционной и новаторской интеллектуальной элиты из архитектурной среды. Там еще был такой Орлов – который ДНЕПРОГЭС построил. Колли, Орлов и другие. Все они стали моими родственниками. И поэтому я с самого начала имел доступ к тому, к чему в то время, наверное, мало кто имел свободный доступ - зарубежным журналам по архитектуре. Георгий Михайлович Орлов был какой-то президент международной ассоциации архитекторов, и он получал кучу зарубежных журналов. Всякие Райты и прочие были для меня легко доступны и известны. И эта любовь к архитектуре осталась у меня на всю жизнь. Ну, вот такая преамбула.
А.П. – Эрн был одним из первых философов, который сводил все вещи к основанию сущностей. Тема редуцирования, попытка найти первичные пластические конструкции…
Б.К. Да, да. Я, надо сказать, только этим всю жизнь только и занимался. Я ведь не умею рисовать, не умею писать, вообще ничего может, и не умею..
А.П. Хороший художник тот, который говорит, что он не умеет рисовать (смеется). Правда?
Б.К. Ну да, конечно. Все умеют рисовать, а я вот не умею (тоже смеется). Но на самом деле, если серьезно говорить, то действительно, только композиция и конструкция. Только этим я и занимался всегда. Остальное – прилагается. Будет ли там фигурка, домик или пейзаж. Но конструкция это всегда было для меня самым главным. Даже когда я только начал учится, тогда уже у меня появились почеркушечки такие – квадратик, а в ней конструкция. А потом уже эту конструкцию что-то вписывается. Какой-либо мотив.
А.П. А ваши соученики Вас не дразнили, что Вы рисовать не умеете?
Б.К. Да нет, да я же шучу, я рисовал лучше их всех. Есть, конечно, масса людей, которые рисуют лучше меня. Но среди тех с кем я учился никто рисовать не умел. И в Суриковском те, кто учился, рисовать не умел. Не умел и не будет уметь, потому что принцип преподавания у нас неверный абсолютно. Методика неверная. Это такое школярство, когда все осталось как при Чистякове. То есть: я натуру прибью гвоздями к стулу, и свой глаз прибью к мольберту и буду рисовать. Это и есть принцип бездарного преподавания. Гениальное преподавание, это когда «я вращаюсь, и натура вращается». Вокруг жизнь вращается, и пространство вокруг нас есть. Ну как у Сезанна. Тогда только возникает многообъемность и многополярность смыслов всяких. Поэтому насчет рисования я и говорю, что в России вообще никто рисовать не умеет. Ой, я это куда говорю, это я в диктофон говорю? (смеется). А Вы знаете кого-нибудь в России кто умеет рисовать?
А.П. Ну я знаю другое, то, что в Строгановке есть и (неразборч. Мои, -Гарин?) Но научить рисовать можно и обезьяну. Но это не будет искусством. Согласны?
Б.К. Ну нет, всеж таки обезьяну не научишь рисовать (смеется). Вообще научить чему-нибудь и кого-нибудь нельзя. Я Вам скажу такую штуку: вот сейчас вышел двухтомник антология русской поэзии второй половины двадцатого века. Там 400 поэтов, отобранных по высшему разряду. И большинство из них не то что не кончали Литературный институт, но и даже близко ничему подобному не учились. Совсем разные люди. Вот гениальный поэт Дидусенко, жил как бомж в шалаше в Расторгуево, умер и не знали, кто он и кому хоронить. Есть такое выражение: «Можно быть хорошим художником и не платить за квартиру. А можно быть хорошим художником и платить за квартиру». И так и так можно.
А.П. – А можно быть хорошим художником, и не платить за холст?
Б.К. Ну я такой (смеется). До какого-то времени так и было. Я начинал всякие эксперименты с материалами – рельефы, оргалит, гофрокартон оттого, что на холсты и подрамники денег вечно не хватало. Ну а со временем это стало моим художественным приемом. Теперь мог бы писать на холсте, но не хочется. Не интересно. Интересней искать что-то новое.
А.П. – А где кончается искусство и начинается судьба?
Б.К. (смеется) Да она нигде не кончается. Не начинается и не кончается. У меня вот они идут разнонаправлено и одновременно и лоб в лоб и как угодно. Судьба… Вообще я думаю, что люди – обыватели (обыватели в хорошем смысле, живут и обывают) они реагируют конечно на судьбу. Больше всего на судьбу.
А.П. Обывают и их обувают.
Б.К. Да. И мифология судьбы важнее зачастую бывает, чем картины. Правда, ведь? Интересная монография о художнике читается взахлеб, а картины сами по себе – их надо разбирать, и это дело тонкое… А вот какие-нибудь полуанекдотические книжки о художниках, о Левитане например (хотя Левитан понятен и без комментариев) как люди это любят.
А.П. Левитан не понятен без комментариев. Без комментариев он кажется салонным живописцем.
Б.К. Ну про Левитана интересно конечно поговорить, потому что я обожаю Левитана.
А.П. Я тоже.
Б.К. Да? Я считаю, что есть явления в искусстве, которые открывают новую форму, а есть явления, которые открывают новое содержание. Или вскрывает новое содержание. И вот Левитан был никакой не новатор, никакой формы не открыл, салонный художник. Но ведь он открыл русский пейзаж. До него ничего этого не было – перелесочек, оглобля и прочая фигня. Никто этого не рисовал. Был Шишкин, который немец по сути своей. Шишкин - это немецкая олеография. А вот Левитан открыл русский пейзаж. И потом миллион советских художников – они делали Левитана. Околица, стожок и так далее. Он открыл прелесть обыденного, как Чехов открывал поэзию в обыденности, никаких Шекспировских страстей. Ну вот.
А.П. Ну хорошо. Закончим о Левитане. А вот ваша драматическая черно-белая графика. Именно графика. Она очень психосоматическая.
Б.К. Да, разве? А я думал, что она очень жизнерадостная (смеется). А мне кажется, что даже когда я кладбище рисую, у меня там весело так. Веселое кладбище…
А.П. Этот такой вот «немецкий экспрессионизм», он имеет органистическую интенцию?
Б.К. Все, что я сделал фактически, я понятия не имел о немецком экспрессионизме. Потом я понял, что я им внутренне близок. А в то время, когда я начинал делать эту свою черно-белую графику, я не знал о них. Это сейчас все доступно, любые книжки, любые альбомы…
А.П. Перебью, потом расскажете про Гюнтера Грассе и других. А вот как Вы считаете, они вообще Вам нужны были, эти книжки? Можно было ли из себя это сделать, не глядя…
Б.К. (перебивает) Да так и было, так и было. Никаких книжек не было тогда, да и вообще дело вот в чем. Человек не может выскочить за пределы своего тела и своей органики. Выскочить за пределы своей органики можно только искусственным построением. Если ты не откликаешься на свое биологическое поведение, то, что ты делаешь – это искусственное и выдуманное. Навязанное. Вообще большая часть того, что сделано в искусстве – это искусственное и выдуманное. То, что человеку внушили. Что хорошие картины это должно быть вот так. А люди, которые что-то двигали, говорили новое слово в искусстве - это было их биологической сущностью. Ни Сезана, ни Ван-Гога невозможно было чему-то научить, что-то внушить.
А.П. Но Ван-Гог доигрался до того, что ухо себе отрезал…Вы считаете это оправданно?
Б.К. Черт его знает. Наверно оправданно. Ведь когда человек стремится к чему-то совершенно недосягаемому, он чувствует, что это недосягаемо. Его не устраивало, то, что рисовали какой-нибудь Пюви де Шаван. И он стремился к небывалому, гипертрофированному, невероятному. Ведь никто до него не мог и не пытался нарисовать раскаленное солнце. Да его и нельзя нарисовать. Ярящее солнце. И его отрезание уха органически вписывается в систему его жизни, судьбы и искусства. Не то, что я сейчас себе вот ухо отрежу. Но я не могу достичь того к чему стремлюсь и вот я отрезаю себе ухо. Нужно сделать что-нибудь небывалое. Ухо отрезать – это вполне небывалое. Не могу себе представить, чтоб советские художники себе что-нибудь отрезали…
А.П. Ну как же. Вот Владимир Вейсберг, который рисовал белое на белом, так вот он приходил в такой экстаз, что чтобы прийти в себя он резал себе руки.
Б.К. Да, я знаю. Это такой же пример.
А.П. Но что это, искусство или уже дурдом?
Б.К. Ну начнем с того, что искусство это в любом случае дурдом. Это отклонение от нормы всегда. Если б нормальные люди были, то они бы пахали, сеяли и доили коз. И никакого искусства. Искусство это всегда патология. Но тут вопрос в том, что эта патология разнообразного свойства бывает. А бывают Нормальные художники, не буду называть имена, но имя им – легион. Они не то, чтобы резать себя, им вовсе не приходит в голову даже то, что мир трагичен изначально. И вот еще такая штука для меня очень важна: это то, что Шагал называл словом «химия». Есть вибрация от искусства или нет. Мы же бегаем по выставочным залам быстро и за секунду понимаем фонит или не фонит
А.П. Есть от нее звон. Звонит или не звонит.
Б.К. Да. Можем пробежать мимо огромной картины и не обратить внимания. А какая-нибудь маленькая штучка вот висит, и фонит. От нее идет вот эта химия. Шагал называл «химия», - импульсы , радиация, как угодно. Тут еще банальная вещь – кому-то идут импульсы, а кому-то нет. И те говорят «да ладно ребята, что вы прикидываетесь, нет тут ничего гениального».
А.П. Ну все таки, Вы думаете о том, что в какой-то момент человек встанет, как заяц, увидит вашу работу и задумается. Подумает о том, что « А вот, блять, искусство»… извините за выражение.
Б.К. Ну нет. Это такое честолюбие надо иметь… Это ко мне не имеет отношения. Никогда не думал об этом.
А.П. А где есть искренность в искусстве? Возможно ли вообще понятие «искренности» в сегодняшнем искусстве?
Б.К. Ой. Да это сложный вопрос. Потому что и дурак бывает искренним, вот что. Более того – дурак, он еще более искренний. Только нужна ли такая искренность… Я вот про себя скажу: я не могу врать, меня корежит от одной неверно мною проведенной линии, объема и так далее. Искренность – она конечно действует. А фальшь она действует на недоумков. Вообще действуют несколько вещей: искренность, нежность, любовь, трагизм, вариантность, юмор и так далее. И когда ты смотришь, только они и срабатывают.
А.П. Последний вопрос: а сразу вот примеры можете – кого Вы представляете в качестве юмора и кого в качестве трагизма.
Б.К. Юмор – это безусловно Гойя. Это самый крупный юморист в мире. Старуха перед зеркалом, Модницы его. Это конечно трагический юмор. Но это же абсолютный юмор.
А.П. А когда он Ужасы войны делает?
Б.К. Все равно.
А.П. Что, смешно что-ли?
Б.К. Нет, но зато это настоящий юмор, это издевательство, но в нем есть и юмор и мудрость.
Б.К. Еще Лотрек – бездна юмора. Но какого уровня этот юмор… А трагизма могу навалом накидать
А.П. Все-все-все. Закончили.