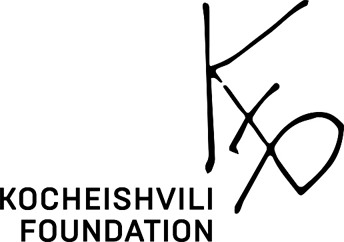Коды Бориса Кочейшвили.
Воображаемое путешествие в Италию
Художественный язык Бориса Кочейшвили формировался в 1970-е годы, и его непросто идентифицировать с тем или иным направлением. Художник долгое время существовал вне сцены официального и даже неофициального советского искусства. Его графические работы по мотивам литературных произведений иногда экспонировались на выставках и приобретались в музейные собрания, но это происходило от случая к случаю и не было регулярной практикой.
Если художественные произведения «обкатываются» на выставках или имеют хождение в определенном сообществе, то со временем искусство их автора начинает ассоциироваться с устойчивой конфигурацией ключевых черт, легко считываемой этим сообществом. Борису Кочейшвили удается избежать подобного клиширования: на первый взгляд язык его произведений может показаться герметичным, не предполагающим внешних отсылок. Художника отличает редкое постоянство тем: он пишет композиции с фигурами, а также натюрмортными и архитектурными мотивами. Основу этих композиций, как правило, составляют пейзажные структуры с обобщенными пространственными планами, последовательность которых может нарушаться. И тогда пространство теряет гомогенность, ломается, сворачивается, в нем возникают лакуны, а фигуры превращаются в пустые силуэты или знаки.
Персонажи жанровых сцен представлены в статуарных позах, и даже в игре или движении выглядят выхваченными из процесса, остановленными. Нарратив у Кочейшвили редуцирован: сюжет картин часто сводится к соприсутствию условных героев в условном месте.
Если учитывать общие тенденции, то процесс формализации сюжетов в советском искусстве наметился уже в «суровом стиле» начала 1960-х, когда поиски художественного языка возобладали над решением изобразительных задач. Кризис нарратива отчетливо проявился в следующем десятилетии: вместо жанровых сцен художники отдавали предпочтение символическим мотивам, уводили героев на периферию картинного поля и тематизировали пустое пространство.
Борис Кочейшвили мог пережить кризис нарратива сравнительно рано — в 1962 году, во время путешествия по Италии, где у него была возможность увидеть работы художников, абсолютно чуждых эстетике социалистического реализма. Творческая поездка за границу — случай исключительный в советской практике и невероятная удача для молодого выпускника училища «Памяти 1905 года», которого изрезанные холсты Лучо Фонтаны заставили пережить культурный шок. Не менее судьбоносным для Кочейшвили оказалось знакомство с произведениями Моранди и Де Кирико. Художественное наследие Джорджо де Кирико принято отождествлять с «метафизическим искусством» — этот ярлык приклеился и к работам Бориса Кочейшвили. Определение «метафизика» всегда нуждается в уточнениях, поскольку окутывает произведения флером глубокомысленности и при этом мало что объясняет. Так или иначе речь идет о сверхчувственном опыте, отрыве от эмпирической реальности. Де Кирико представляет свои образы как идеи, существующие в сознании, и делает особый акцент на условности изображаемого. Категории классического или современного искусства для итальянского мастера также условны, и поэтому он свободно оперирует фрагментами, изъятыми из разных контекстов, а главным объектом его манипуляций становится сама картина и совокупность представлений о ней. Многие свои работы Де Кирико трактует как ящики с набором повторяющихся элементов наподобие детского конструктора.
Тот же принцип выдержан и в графических сериях Бориса Кочейшвили, только здесь все мотивы, включая натюрморты, архитектурные формы и буквы воспринимаются как равноценные персонажи-участники спектакля, а пространство не ограничено ящиком или театральной коробкой — оно динамично и словно стремится выйти за границы листа. Художник постоянно обращается к традиционному жанру классического пейзажа с фигурами. Этот жанр предполагает строгую пропорциональность элементов и симметричную расстановку фигур в условном пространстве. Но даже когда Кочейшвили следует этим законам, его композиции нестабильны: прерывистые, ломкие или смазанные контуры не позволяют объектам вписаться в пейзаж — попытки героев сменить положение приводят лишь к застыванию в очередной статуарной позе.
Отношения человека и окружающего пространства не гармоничны, как в классическом пейзаже, скорее наоборот, Борис Кочейшвили драматизирует эти отношения, отчуждает пространство от персонажей и представляет его как место краткого пребывания отдыхающих, у которых нет ни времени, ни возможности адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам. К тому же, будучи оторванными от привычной среды, в своих мыслях эти «отдыхающие» могут находиться далеко. Такое ощущение разомкнутости пространства и разрыв в сознании между временем и местом действия характерны для драматургии Чехова, к которой Борис Кочейшвили постоянно возвращается в своем творчестве.
Еще в ранних рисунках из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, сделанных по мотивам чеховских произведений, художник погружает героев в динамичную пространственную среду, где они практически растворяются. В рисунке «Три сестры» среда настолько поглощает персонажей, что их присутствие кажется условным. Для Кочейшвили мотив трех сестер, мысленно пребывающих в другом месте, станет сквозным.
Литература и театр — настолько важные ориентиры для Бориса Кочейшвили, что его жанровые сценки иногда могут показаться иллюстрациями к ненаписанным пьесам или эскизами к оформлению несуществующих спектаклей, где главным героем становится пространство. Пейзажи с дальними горизонтами при первом взгляде на них читаются как бесконечные просторы, но уже в следующий момент эти «просторы» воспринимаются как плоскость театральной декорации, на которой изображен фрагмент мнимого далекого пространства.
Идея бесконечности будоражила умы многих художников эпохи освоения космоса. По отношению к программам «шестидесятников» Борис Кочейшвили выступает скорее скептиком, чем продолжателем, и в своих работах репрезентирует дурную бесконечность — самообман некоего восторженного автора, который уверен в том, что подчинил себе пространство и время. Еще в 1930-е этот скепсис проявился в поздних работах учеников Казимира Малевича, которые по разным причинам пытались «заземлить» невесомые супрематические формы и вписать их в традиционные пейзажные структуры. Такое движение, с одной стороны, можно расценивать как симптом кризиса авангардистского мышления, с другой — этот кризис позволил художникам следующих поколений на новом уровне переосмыслить возможности художественного языка независимо от бинарных оппозиций «абстрактное — фигуративное», «образ — знак» и прочих.
В работах Бориса Кочейшвили антропоморфные фигуры легко превращаются в архитектурные или натюрмортные мотивы, а также в знаки или абстрактные геометрические элементы. Жанровые сцены могут быть разыграны через натюрмортную постановку, орнаментальные барочные виньетки раскрываются в пейзажную композицию, и наоборот — искусство Кочейшвили интересно рассматривать в движении жанров, когда теряется само понятие «жанр».
Эта подвижность фокуса объясняется тем, что любой мотив у Кочейшвили проходит путь от вполне определенного, иногда гротескного образа до знака, индекса или кода, через который художник преодолевает рамки жанра и освобождается от сюжета.
Следующий и самый парадоксальный шаг на этом пути связан с обращением к другому виду искусства — скульптуре. В середине 1990-х Борис Кочейшвили начинает делать рельефы. Он работает мастихином по гипсовой массе и создает трехмерные серии своих графических композиций. Эфемерность последних, казалось бы, полностью противоречит воплощению в скульптуре — знаки нематериальны! — однако в рельефах Кочейшвили они выступают на поверхности отдельными участками и исчезают в зависимости от условий освещения. Так снимается противоречие между материальностью и эфемерностью. Собственно техника рельефа отмечает границу между картиной и скульптурой, объединяя в себе аспекты иллюзорности и реальности пространственных форм. В некоторых приемах Борис Кочейшвили следует образцам Джакомо Манцу, выставку которого он мог увидеть в Москве еще в 1966 году. Искусство этого скульптора пропагандировалось в СССР и даже находило подражателей, но в случае Бориса Кочейшвили это не подражание, а продолжение и развитие пластических идей старшего собрата по цеху, который работал мастихином так, словно делал графический эскиз на бумаге, — при этом Манцу более активно, чем Кочейшвили, использовал порезы (можно вспомнить работы Лучо Фонтаны, которые когда-то так впечатлили молодого художника из Советского Союза).
Явные параллели с творчеством итальянских художников подталкивают к мысли о том, что ранее путешествие в Италию оказало на Бориса Кочейшвили принципиальное влияние. И все же торопиться с выводами не стоит. Конечно, в истории искусства трудно найти художника, который не изменился бы после путешествия в Италию, и ритмы жизни современного арт-сообщества так или иначе определяются пульсацией Венецианских биеннале. Но нельзя отрицать и того, что география работ Бориса Кочейшвили гораздо шире, а итальянская поездка художника была всего лишь коротким эпизодом, после которого начались воображаемые путешествия по местам, которых не может быть.